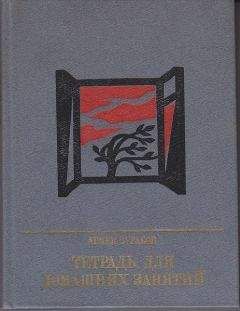Дождь за окном усиливался, и он заметил это по тому, как стало смывать с подоконника снег. Соня не верит, что революция делается для всех народов. Тогда царица Тамара тоже революционер. Жордания так и говорил: царица Тамара сделала для Грузии больше, чем революция. Однажды Жордания сказал: каждому народу надо прежде всего есть и размножаться, а для этого нужна территория. Когда это он сказал?.. Сразу после Третьего съезда. Протоколы съезда читали вслух на заседаниях комитета. Уже во время чтения спорили. Исидор Рамишвили и Сильвестр Джибладзе доказывали, что Грузии мешает не русский царь, а армянский капиталист. Нужно срочно создать грузинских капиталистов. А для этого нужно не восстание, а национальный банк. И Жордания сказал тогда, что надо есть и размножаться и для этого нужна территория. Цхакая назвал Жордания фальшивомонетчиком, который подменяет революционную идею национальной. Жордания не возражал и даже обрадовался, что его так хорошо поняли. И ушел. Рамишвили и Джибладзе тоже ушли. И еще несколько человек ушли. Цхахая сказал: русские меньшевики видели дальше — они ушли до съезда!
Цхакая открыл Третий съезд. Плеханов ушел к меньшевикам, и старейшим среди большевиков оказался Цхакая. Цхакая рассказал на съезде о демонстрации в день братания и о том, что ее возглавил молодой социал-демократ. После заседания Ленин спросил Цхакая, кто был этот социал-демократ? Цхакая сказал то, что знал: когда положение безнадежное, когда уже ничего нельзя придумать и сделать, произносится одно магическое слово — Камо, для нас это — имя, фамилия, сословие, национальность… Ленин переспросил: «Ударение на „о“? Камо? Я правильно уловил?»
Он с трудом сдерживал радость, когда Цхакая рассказывал это, потом спокойно, по-деловому сказал:
— Все ясно!
— Что тебе ясно? — спросил Цхакая улыбаясь.
— Съезд постановил поднять восстание, — сказал он. — Чтобы поднять восстание — нужно оружие, чтоб купить оружие — нужны деньги, чтоб достать деньги — нужны боевики.
Цхакая похлопал его по плечу. Цхакая было сорок лет, а ему двадцать три.
За окном звонко ударила по мокрому подоконнику капля. Как гонг. Он сказал вслух: гонг весны! И подумал: надо записать, чтобы не забыть. Но, открыв тетрадь, увидел незаконченную запись о выступлении Ленина на съезде транспортных рабочих. Он начал ее накануне вечером, вместе с Владимиром Александровичем. Владимир Александрович ушел и предложил дописать без него.
Он перечел то, что написал накануне, и стал писать о кронштадтском мятеже: «Хотя в лозунгах этого восстания на первый взгляд не было ничего контрреволюционного, кроме: „Долой большевиков, да здравствуют беспартийные Советы!“, тем не менее все оттенки русской и иностранной контрреволюции встретили это известие о величайшей радостью, и вся эта свора в один голос завопила о снабжении кронштадтских „революционеров“ как снарядами, так и продовольствием…» В пятом году Жордания перед тем, как уйти из комитета, сказал: историю делает не тот, кто думает о будущем рае, а хот, кто думает о сегодняшнем насущном хлебе. Кто-то вдогонку крикнул: не хлебом единым!.. Жордания сейчас в Париже. Вероятно, тоже хочет Советов без большевиков. Если большевиков не станет, Жордания вернется. И будет думать о насущном хлебе.
Он вспомнил, как Жордания выступал против боевых отрядов:
— У к-кого мы х-х-хотим экспроприи-р-р-ровать? — заикаясь, спрашивал Жордания. — У с-самих себя! Эт-ти деньги прис-с-сылаются на н-н-нужды К-кавказа. Мы б-будем г-г-грабить Кавказ, чтоб у-устроить р-революцию в Р-р-россии?!
Цхакая предложил не заносить его выступление в протокол заседания. И тогда он ушел. И вместе с ним ушли Рамишвили, Джибладзе и другие.
Поставить его во главе кавказских боевиков предложил Красин. Красин руководил всеми российскими боевиками. Красина он знал по Баку — по кецховелевской «Нине», когда увозил из Баку в Тифлис «Искру». Красин подавлял его спокойной яростью больших умных глаз, изысканными манерами, разбойной сибирской красотой, образованностью, точными, безжалостными словами и уверенной властью над мгновенной бешеной реакцией, которую можно было уловить только в глазах. В Баку Красин заведовал электростанцией на Баиловом мысу, был знаменит, блестящ, в кругу промышленников слыл удачливым и связан был со всем кавказским подпольем.
Он не ожидал, что Красин помнит о нем. Весь февраль, сразу после побега из Метехи, он готовил первую группу. Занимались в пустынном зимнем Ботаническом саду, в ущелье Дабаханки, у водопада: поднимались на веревках по отвесным склонам, переходили по скользким покатым камням через реку, бросали камни, прятались в кустах и зарослях. Однажды прямо из ущелья он вывел всех на Коджорскую дорогу — там ждал извозчик. Он сел, и все сели вслед за ним, и фаэтон сразу заскрипел рессорами, и извозчик стал кричать, что столько людей не повезет. Тогда Бачуа Купрашвили столкнул извозчика и сам хотел сесть на его место, но он остановил Бачуа и сказал, что извозчик прав: в фаэтоне должно быть не больше четырех человек, и поэтому все будут садиться по очереди, прыгая на ходу, и чтоб никто не задерживался в фаэтоне больше минуты. Он и еще трое сели, а остальные побежали рядом с фаэтоном, потом он первый спрыгнул, и за ним те трое, и он крикнул извозчику, чтоб ехал быстрее, а в фаэтон на ходу уже вспрыгивали другие, заваливались в мягкое сиденье, смеялись, тоже кричали: быстрее! И потом, уже задыхаясь от бега и прыжков, опять кричали извозчику: быстрее! И лошади неслись уже галопом, и несколько человек уже остались далеко позади, а потом в фаэтоне остались только двое — он и Бачуа, и когда он вспрыгивал на ступеньку, Бачуа тут же прыгал на землю, и снова на ступеньку, и так до тех пор, пока оба без сил не свалились на сиденье. Потом подбирали всех, кто остался на дороге, и извозчик хохотал вместе со всеми, вспоминая, как прыгали и падали, и так, смеясь, проехали по дороге еще несколько раз в тот день и во все последующие дни. А однажды, когда вышли из ущелья на Коджорскую дорогу, фаэтона не было, и все этому удивились, а он небрежно сказал, что фаэтон сегодня запаздывает, и что извозчик будет, очевидно, другой и фаэтон другой, и кроме извозчика в фаэтоне будут солдаты и кассир, потому что в фаэтоне везут казенные деньги, но ничего не меняется, все знают свои места, и только вместо камня он бросит бомбу, а потом вот эту вторую бомбу бросит Бачуа, а если лошади все-таки понесут, все побегут за фаэтоном, и на ходу надо будет выбросить оттуда мешок с деньгами.
Фаэтон показался через несколько минут, никто не успел испугаться; лошади шли усталой рысью, было видно, как мягко покачивается на тонких рессорах коляска фаэтона; на облучке рядом с извозчиком сидел солдат с ружьем, и в фаэтоне на узком деревянном сиденье, спиной к извозчику, свесив на ступеньку белый от пыли сапог, — тоже солдат с ружьем, а кассир, наверное, откинулся в глубину фаэтона, и его не было видно.
От поворота до того места, где они стояли, фаэтон шел несколько секунд, и все это время они смеялись, глядя на фаэтон, и он под смех громко по-грузински предупреждал Бачуа, что, если после первого взрыва лошади остановятся, вторую бомбу бросать не надо, и еще что-то говорил для всех, громко, смеясь вместе со всеми, и когда фаэтон проезжал мимо, солдат, сидящий спиной к извозчику, смотрел на них и улыбался, и когда уже вдогонку фаэтону полетела бомба, солдат все еще улыбался. Потом лицо его исчезло в дыму.
Фаэтон не остановился, но от взрыва или оттого, что шарахнулись лошади, круто накренился и так, на двух колесах, проехал, вываливая на дорогу оглушенных солдат и извозчика, а кассир остался в фаэтоне, и когда бросившийся наперерез лошадям Бачуа остановил фаэтон, кассир забился еще глубже, подняв на сиденье ноги и прикрывая коленями лицо. У солдат отобрали ружья прежде, чем они очнулись, а потом, пятясь, не веря, что их отпускают жить, солдаты растерянно убегали за поворот, вверх по дороге. А извозчик сразу вскочил на ноги и побежал к городу и, не оборачиваясь, визгливо кричал, чтоб не стреляли. Кассира выволакивали силой — он упирался, кусался, закрывал глаза, кричал, что ничего не видел и никого не запомнит, у него достали из кобуры на поясе наган и, подхватив под мышки, отнесли и положили на край дороги, над склоном, и он тут же, лихорадочно отталкиваясь руками и ногами, стал катиться до склону вниз, в Ботанический сад, и исчез в кустах. Денег оказалось восемь тысяч.
В ту ночь ему захотелось побыть рядом с сестрами. Они жили у тети Лизы. После побега из Метехи он приходил к ним редко, по ночам, и будил только Джаваир. Потом перелезали через забор, отделявший двор от соседского сада, иногда до утра просиживали на единственной скамейке под дубом, который черной тенью покрывал весь сад.
В ту ночь ему впервые было одиноко, и он с удивлением ощущал тоску. Джаваир не разбудил. Прошел мимо дома, перелез через забор, нашел скамейку под дубом, долго сидел, глядя на тихое матовое свечение веранды в глубине сада. Джаваир рассказывала, что владелец сада, немец Рамм, по ночам на веранде что-то изобретает. Он представил: горит на веранде лампа, полыхают со стен золотые корешки книг, сидит в кресле человек, все вокруг него замерло, пусто, неподвижно, а человек изобретает — сам наполняет себя до отказа мыслями и чувствами, и не остается места для тоски.