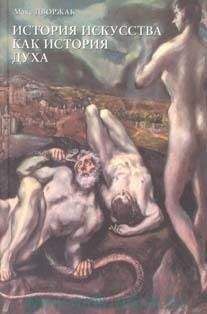В этом художественном организме, который мог расти в течение десятков и сотен лет без потери своего единства, потому что оно покоилось не на изолированной, ограниченной в себе форме, а на нематериальном принципе, изобразительное искусство не могло иметь самостоятельного значения[19]. Это звучит парадоксально, когда мы думаем о необозримом количестве пластических произведений, которыми были украшеныготические соборы и которые означают возрождение монументальной скульптуры; или когда мы вспоминаем множестворажей и фресок (как дошедших до нас от готического времени, так и недошедших), общее число которых по богатству предметов и изображений образовало бы, пожалуй, самую подробную изобразительную хронику всех времен.
И все-таки это богатство было связано, было внешне и внутренне несвободно как по отношению к зданиям, с которыми оно было соединено, так и в его отношении к природе и жизни. Произведения искусства ренессанса — статуя Донателло, картина Рафаэля или Тициана — являются микрокосмом, миром в себе, не только в том смысле, что их ценность и действенность в незначительной мере зависят от действия здания, что большая часть их художественного содержания была автономна и могла быть понята и оценена без связи с вышестоящей художественной системой. Об этом не может быть речи в готических скульптурах или картинах. Ряды статуй, украшающие готический фасад, образуют неотделимую часть этого фасада, и притом не только в качестве декорации, как утверждалось порою, когда говорили о декоративном значении готических скульптуры и живописи; декоративными являются художественные формы (если только не совсем перевернуть смысл слов), которые составляют «агрегат», составляют нечто «прикладное», имеющее задачей повышение действия художественного произведения, но что можно было бы также и опустить без того, чтобы основная форма потеряла свое формальное значение. Готическое же статуарное украшение является частью основной формы и вместе с архитектоническими частями выражает движение здания и его тектонический смысл, выражает непринужденный рост, свободное растворение компактной массы, а готическая монументальная живопись остается несомненным выражением архитектуры, которая освобождает ее от господства твердой стены, объема в замкнутом в себе пространстве.
При этом было бы, однако, совершенно неверно видеть в готической скульптуре и живописи только воплощение архитектонической мысли их времени. В рамках архитектонической связанности готическое изобразительное искусство означает в то же время также самостоятельное новое решение пластических и живописных проблем, причем сначала на основе идеалистического характера раннеготического искусства, от которого нам надо исходить при нашем рассмотрении. Здесь наталкиваешься на немалые трудности уже в терминологии художественных особенностей, так как наша обычная терминология возникла в эпоху, которая ничего не хотела знать о художественном смысле древнейшего готического искусства, да и не могла знать. Но объясняется это и объективными причинами.
Наше восприятие искусства всецело определяется со времени тех изменений, которые оно претерпело за период, истекший от средних веков до нового времени — отношением к реальному бытию, к природе и к чувственному человеческому переживанию, причем это остается в силе и тогда, когда мы имеем дело с ирреальными мотивами. Поэтому нам не легко представить себе мир, который все ценности действительности, все воспринимаемое чувствами или рассудком, все конечное, ограниченное, видел только в зеркале абсолютного, вечного, бесконечного и смотрел на конечное только как на проявление чувственно и рационально непостижимой божественной мысли, находящейся, по словам Гильдеберта из Лавардина, «надо всем, подо всем, вне всего, во всем». К последней следует сводить всю причинность, все создаваемое и созданное; но своеобразие средневекового художественного развития заключалось не только в религиозном характере (на что постоянно и указывают). Искусство контрреформации, например, было религиозным не в меньшей мере, и все-таки — несмотря на многие точки соприкосновения — оно далеко от готического. Своеобразие готики заключалось во всемогуществе находящейся вне материального переживания духовной конструкции, влияние которой было так велико, что всякое непосредственное прибегание к чувственному опыту в духовных вещах (подобно тому, как ныне всякое своевольное пренебрежение им) воспринималось как бессмысленный и заслуживающий порицания проступок против истины и человеческого рассудка. Ансельм Кентерберийский писал, ступая против Росцеллина и его учеников: «В их душах пиление столь переплетено телесными вещами, что оно никак не может из них выпутаться».
В этой подчиненности всех телесных вещей, то есть всех чувственных ценностей и материальных отношений, под углом зрения чисто духовной и надчувственной значимости, сохранялся первоначальный источник прогресса, происходившего в средневековом искусстве, и благодаря которому это искусство - не менее, чем древневосточное, классическое или современное — предстает самостоятельной и законченной фазой во всеобщей эволюции искусства. Это искусство показывает нам тот путь, что вел от сновидческого одухотворения материи и всего универсума в античном христианстве и раннехристианском искусстве к варварски вулканическому, неистово революционному отказу новых народов и новой культуры раннего средневековья от чувственной красоты и привел к резкой границе между новой духовной истиной и убеждением, так же как и покоящейся на них жизнью фантазии, с одной стороны, и «мнимым существованием» старых мирских благ и впечатлений, с другой, к разрыву вплоть до разрушения всех старых культовых понятий[20] . К ним начали обращаться в эпоху Каролингов после того, как безусловное трансцендентное религиозное содержание жизни перестало образовывать единственный масштаб жизни человека и под влиянием новых политических и социальных образований должно было стремиться к новому примирению с земной жизнью и ее ценностями, в чем и надлежит искать глубочайшую причину каролингского возрождения. Однако эта эпоха была и временем господства спиритуализма, господства, которое при всех новых требованиях и целях оказывало решающее воздействие на искусство и которое вместо того, чтобы вести обратно к античности, вело к постепенной переоценке чувственных элементов на новой духовной основе.
Было бы очень заманчиво и важно по отдельности проследить, как из этого процесса во всех искусствах в качестве первого этапа проистекает примечательный параллелизм ограниченно материального и абстрактно надматериального художественного воздействия в романском искусстве и проследить, как достигается второй этап и одновременно завершение перестройки традиционного искусства в готике на основе полнейшего пронизывания и преобразования всех реальных сущностей и взаимосвязей новыми понятиями духовно значимого для человечества и достойного увековечивания. Проследить, как тем самым меняется все отношение к окружающему миру, как возникают новые художественные представления, формальные цели и точки зрения, как основывается новое, принципиально отличное от классического возвышение телесного мира, идущее не от чувственного к духовному, как это было в древности, но наоборот, от духовного и при этом в первую очередь от надмирно духовного к чувственному, как заново возводится телесное, преходяще ограниченная материя через формальную красоту и художественную отвлеченность в царство идеальных благ человечества! Проследить, как через этот универсально исторический, прокладывающий новые пути взлет нового искусства из нового мировоззрения перетолковываются все традиции, как возникают новые проблемы, новые законы монументальности, художественного совершенства, величия и всеобщности!
Если бы все это было положено в качестве движущей силы исторического рассмотрения средневекового искусства и пеоеплетено с богатством реальных фактов, то возникла бы картина художественного развития, которое, исходя из последовательности его внутренней структуры, цельности остроты его характера и значения для всего будущего, можно было бы сопоставить лишь с тем, чем мы обязаны грекам.
Однако же это — задача будущего; сегодня мы хотели бы в той степени, как это требуется для нашей цели, представить лишь некоторые из особенностей готической скульптуры и живописи, происходящих из их надчувственного идеалистического источника.
Так как изображение фигуры стояло вначале всецело на переднем плане, то рекомендуется исходить от нее и прежде всего исследовать решающие для создания отдельной фигуры точки зрения.
Объективное формальное содержание готических фигур, происходящее из двух источников — из традиции и, как подчеркивается порою, «из личного отношения к природе», — по наглядным словам Фёге, «как бы перерисовывается художником в вогнутом зеркале»[21] , т. е. другими словами, подчиняется формальной схеме. Эта схема покоилась, однако, не на примитивных образах воспоминания, которые принимаются за исходную точку архаически-греческого и всякого первобытного искусства Юлиусом Ланге и Эмануэлем Леви. Ее нельзя также просто вывести из структурных и эстетических предпосылок новой архитектуры, как это до сих пор наиболее остроумно пробовал сделать Фёге; она была необычно сложным продуктом всего развития средневекового искусства, для объяснения которого скорее можно было бы указать на идеалистические нормы высшего расцвета греческого искусства. Но только искусство готики стремилось завершить в идеальных образах не естественную функцию и соответствующую ей красоту и выразительность форм, как греческое искусство, а хотело переработать традиционные или покоящиеся на наблюдении природы формальные представления и связи в средства для выражения сверхматериального восприятия художественных идеальных созданий. Не только художественно усиленные впечатления от действительности и естественные живые силы, господствующие над организмами, должны были быть воплощены в художественных созданиях, но реальная форма должна была быть наделена такими качествами, которые ставят перед глазами зрителя субстанцию божественного, ее действие, ее трансцендентную закономерность.