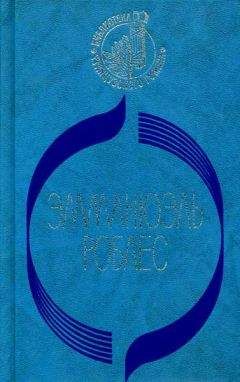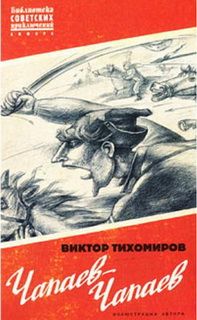"Долой десять министров-капиталистов!"
Но глянь по изголовьям: вместо рабочих кепок - то чернополая шляпа, то увесистая шапка, картуз крестьянский, то целая баранья шкура или белая долгая простыня, замотанная так хитро и ловко - национальный головной убор. А вместо тужурки, пиджака - глухо запахнутые теплые шубы, зипуны, киргизские ватные цветные халаты... По рядам говор - удивительный, ни одним словом не знакомый. Что он, этот говор: про радость, довольство идет или зло потешается, проклинает, каркает беду?
Не знаем, не знаем, ничего не поймем.
А приходит урочный вечерний час, солнце обходит положенный круг, и эти делегаты, члены советского съезда, собравшиеся решать и выбирать пути в царство социализма, падают ниц и молятся восторженно, будто загипнотизированные, своему неведомому богу, воздевают руки, гладят себя по лицу, шепчут какие-то невнятные звуки молитвы. И снова слушают доклад. Потом перевод. Потом споры. И сами вступят в спор. И будут доказывать, убеждать, воздевая руки, бия себя в грудь, восторженно, пламенно, сердито.
Не поймешь... И стыдно, и жалко, и больно оттого, что не можешь понять эту вот сочную, такую нужную, важную речь; в ней подлинное, в ней жизнь, сегодняшний день. Его надо знать, иначе немыслимо работать. А его не знаешь.
И не узнаешь. Потому что немыслимо п е р е в е с т и, рассказать пламенную чужую речь. Переводчик всегда лишь о с в е д о м л я е т о том, что ему надо перевести. И от этого осведомления не остается почти ничего. Все пропадает. Живое, нужное, серьезное слово - уплыло. И мы от этих первых неожиданных уроков вешаем голову.
Кончатся речи. Уйдут делегаты в зал, по коридорам, сомкнутся у дверей - и снова о чем-то горячо толкуют, спорят. Волнуются о важном. Кричат. Потрясают кулаками, грозят... Кому? Нам или врагу нашему? Мы даже и этого не знаем. А речи, крики так громки, так волнующе свежи, так увлекательны неподдельной искренностью! Мы знаем одно: здесь, по Семиречью, главная сила - националы. И не столько татары, дунгане, китайцы, таранчи, сколько киргизы. По киргизским кишлакам вся советская глазная сила. Там, в них, будущее советского Семиречья. И знаем мы еще, что по кишлакам киргизским мало у власти бедноты. Больше манапы, баи, тузы-богатеи, знатные господа киргизские. Только кой-где, почти случайно, на редкость, в совете кишлачном заседает трудовик, бедняк киргиз...
Вот они, делегаты киргизские, - в цветных чалмах, цветных халатах; дородные, упитанные, с незнакомо-замкнутыми лицами, странными, непонятными жестами, чужой, незнакомой речью... Они из советских киргизских кишлаков. Но что они думают? Чего хотят? С чем согласятся, на каких пределах и где, за какими пределами они восстанут как открытые враги?
Нам мучительно трудны эти коренные, самые важные вопросы. На них ответа нет.
А кулацкая деревня, сытая казачья станица, - они тоже прислали сюда не нашего комбедовского мученика, не безлошадного, безземельного батрака, не измыленного помещиком беззащитного, полуголодного испольщика. Нет таких. Здесь казаки - исконные. Да к тому же станицы казацкие будто в опале: не милует, не жалует, не любит их победительница - кулацкая деревня. И казак сердит на деревню. А с деревней - на Советскую власть, потому что д е р е в н я создала здесь Красную Армию и деревня прихлопнула казачьих атаманов: Щербакова, Дутова, Анненкова... Только немногие из станичников, все переборов и все переступив, знают, куда идти, за что бороться, где правда, где верная победа. Но этих мало. А коренная станица - терпит, но не любит - ох, не любит - Советскую власть! Мы и это знаем.
Вот они - делегаты кишлаков, станиц, деревень...
И каждый по-своему - друг и недруг советскому, большевистскому, новому...
Мы насторожились. Чувствуем двойственность. Еще не знаем, что и как станем делать в этой новой, своеобразной, трудной обстановке.
Знамена ало-багровы; солнечным золотом горят беспокойные лозунги; так же, как в родных рабочих центрах, здесь встанут и стоя поют "Интернационал"... И резолюции принимают: бороться... трудиться... строить...
Все, все - как там... И в то же время мы с первого дыхания чувствуем, как глубоко отличны эта обстановка, эта среда, это пение, эти лозунги, эти принятые резолюции. Надо быть осторожным...
Последний день съезда. Сейчас поручают сделать доклад... Что ж: идет.
О чем ином тогда было говорить, как не про новый курс, новые задачи нашего хозяйственного строительства... ЦК еще задолго до партийного съезда, то есть до 27 марта, опубликовал эти тезисы. И в центральной России каждая крошечная ячейка обсуждала их, искренне горячась, шумно радуясь, и повсюду - с острым, глубоким, крепким пониманием великих задач, намеченных здесь на близкое и дальнее время. Вот Туркроста эти тезисы размножил на серых тощих листочках и по Туркестану. От себя добавил:
"Особенно тщательно наши хозяйственные задачи должны обсудить коммунисты Туркестана, где борьба на хозяйственном фронте только начинается..."
Мы смотрим на этих делегатов и думаем:
Пункт пятый... "От централизма трестов к социалистическому централизму"...
Большой, серьезный пункт тезисов. Но что до него п р а к т и ч е с к и с е г о д н я - этим семирекам, у которых нет ни заводов, ни фабрик, а одна только пашня, косяки степных кобылиц да пастбища поднебесных гор. Нет, на этом пункте застревать нельзя... Другой, седьмой.
"Выработка форм социалистического централизма"... восьмой, десятый, пятнадцатый
"О ремонте паровозов и постройке новых".
Нет-нет, тут только пару слов, мимоходом, самых общих, а весь доклад построить, быть может, даже и не на главном... пусть, но оно ближе, нужнее з д е с ь т е п е р ь.
Говорить здесь о "мобилизации индустриального пролетариата" не то что вредно, а попросту не нужно: слова останутся словами, толку от них ни на грош.
Тезисы - одно, а как их разъяснить з д е с ь - это статья особенная.
И доклад построен был под Семиречье.
"Устанавливаются с удовлетворением бесспорные признаки подъема воли к труду в передовых слоях трудящихся"... - так начинались тезисы. Да, на этом полезно сделать остановку. Здесь можно сказать хорошие, нужные слова о превосходстве организованного коллективного труда над разобщенным, частным, случайным.
Потом - о трудовом соревновании. Этот вопрос в ту пору был и нов и свеж. Он взволновал глубоко, открывая новый путь, новую форму, новую подмогу.
Когда говорили об областных хозяйственных органах, о том, что "областные бюро должны иметь широкие полномочия в области непосредственного руководства местной хозяйственной жизнью"... неподдельное оживление зашелестело по рядам, каждый понял по-своему - как е м у любо - эти "широкие полномочия": окраины всегда особенно охочи говорить и думать и спорить о своих полномочиях, - этой любовью, разумеется, пылало и глухое Семиречье... Говорили мы дальше и об участии масс в управлении промышленностью, и о спецах, и о ремонте паровозов, но мало: три четверти съезда - уж никак не меньше - в жизнь свою не слыхали фабричного гудка, паровозного свистка, не видели ни вагона, ни шпал, ни рельсов... Зато все силы были собраны, все знания, весь опыт и уменье все было пущено в ход, когда прозвучали роковые для Семиречья слова одиннадцатого тезиса:
"Собрать путем высшего напряжения сил продовольственный фонд в несколько сот миллионов пудов".
Мы уже знали, что тут, на месте, никакие приказы о разверстке не помогали, что все сборы кончались пустяками: хлебное, сытое Семиречье мало думало о голодных городах, об изморенных деревнях республики.
Сытый голодного, воистину, не понимает. Гудели уныло на скамьях делегаты: хлебные жертвы им были не по сердцу.
А дальше - вопрос о трудовых армиях. Этот вопрос жгуч и злободневен: армия Семиречья переходит на положение трудовой. Как будто слушают и внимательно, а согласья, одобренья на лицах нет. Учтем. Через "субботники" (тут - улыбочки, усмешечки) - к концу: Первое мая!
Надо "превратить международный пролетарский праздник Первое мая, выпадающий в этом году на субботу, в грандиозный всероссийский субботник..."
Выслушали. Согласились. Одобрили. И спели потом "Интернационал". Но все это чуть-чуть не то... Мы выросли в ином краю, мы привыкли, чтобы и говорили, и слушали, и понимали по-иному... Мы чувствовали себя учениками...
В номерах Белоусовских с первого вечера мы себя чувствовали как старинные завсегдатаи; годы гражданской войны, метанье по фронтам, быстрая, часто внезапная смена мест, людей, обстановки - все это приучило смотреть на себя, как на песчинку огромных, гигантских валунов, которые ходят, вздымаются, мчатся из края в край по просторам пустыни... И везде тебе, песчинке, плечом к плечу касаться тысяч других, таких же, как ты, везде валуны одинаково тяжки, везде их взлет одинаково рьян, и дик, и страшен, везде тебя, песчинку, будет жечь все то же раскаленное добела солнце... И что тебе жалеть? К чему привязаться? Что дорого тебе вот здесь, на сотой, пятисотой, тысячной, десятитысячной версте? Не едино ли близко, не едино ли дорого? Только бы не отбиться. Только бы вместе. Взмет - во взмет, полет - в полет, паденье - в паденье, - но, разом, вместе, под одним ударом!