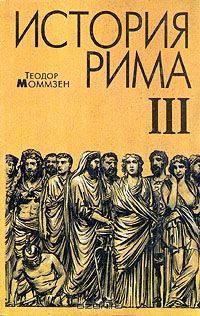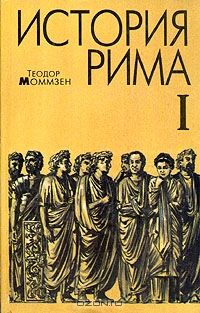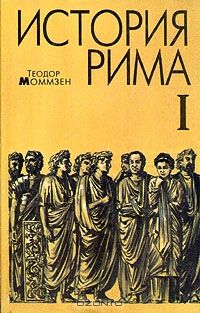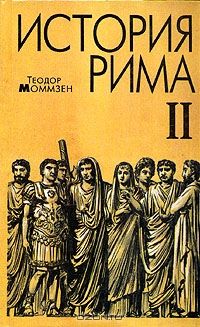135
Весьма метко сказал он однажды о самом себе, что он не особенно любит, но зачастую употребляет устаревшие слова, поэтические же слова очень любит, но не употребляет.
Следующее описание заимствовано из «Маркова раба»:
Вдруг около полночной поры,
Когда разубранное везде пылающими огнями
Воздушное пространство открыло хоровод небесных звезд,
Золотой свод небес покрыло завесой
Движение быстрых туч, наполненных холодным дождем.
Низвергая потоки вод на смертных,
И оторвавшись от холодного полюса,
Понеслись ветры, это дикое отродье Большой Медведицы,
Унося за собой кирпичи, и ветки, и хворост,
Повергнутые ниц, терпя крушение, точно стаи журавлей,
Которым обжигает крылья жар двузубой молнии,
Мы в печали вдруг упали на землю.
В «Человеческом городе» мы читаем:
Грудь твоя не станет свободной от золота и изобилия сокровищ;
Персидские золотоносные горы не снимут со смертного
Заботы и страх; не в силах то сделать и палаты богача Красса.
Но и более легкая манера удавалась поэту. В «Горшке, знающем свой размер», находилась следующая изящная похвала вину:
Для всех вино всегда будет лучшим напитком,
Его изобрели для уврачевания болезней,
В нем скрыт сладостный зародыш веселья,
Оно — та связь, что поддерживает кружок друзей.
Во «Всемирном бураве» возвращающийся домой странник такими словами заканчивает свое обращение к корабельщикам:
Отпустите поводья слабейшему ветерку,
Пока сухой ветер своим дуновеньем не приведет
Нас назад на милую родину!
Эскизы Варрона имеют необычайное историческое и даже поэтическое значение и вследствие отрывочной формы, в которой дошли до нас сведения о них, известны столь немногим и так трудно читаются, что будет позволительно резюмировать здесь содержание некоторых из них с необходимыми для лучшего их понимания восстановлениями текста. Сатира «Встающий спозаранку» изображает домашний быт в деревне. Действующее лицо «с первыми лучами солнца велит всем вставать и само отводит людей на места их работы. Молодые люди сами стелют себе постели, которые после работы кажутся им мягкими, и сами же ставят около них кружку с водой и светильник. Питьем им служит светлая, свежая ключевая вода, едой — хлеб и приправой — лук. В доме и на поле всякая работа спорится. Дом — вовсе не замечательное строение, но архитектор мог бы изучать по нему симметрию. О полях заботятся, чтобы они от беспорядка и заброшенности не пришли в нечистоту и в запустение, зато благодарная Церера отстраняет от растущих тут злаков все невзгоды так, чтобы их впоследствии высоко нагроможденные скирды радовали сердце земледельца. Здесь еще почитается гостеприимство; желанным гостем является всякий, кто вскормлен материнским молоком. Кладовая с хлебом, бочки с вином, запас колбас, повешенных на перекладине, все ключи и замки всегда к услугам странника, перед которым вырастает высокая пирамида яств; довольный сидит потом насытившийся гость у кухонного очага, не озираясь по сторонам, но тихо кивая головой. Для его ложа расстилают самую теплую овчину с двойным мехом. Здесь еще люди как добрые граждане слушаются справедливого закона, который не преследует невинных из недоброжелательства и не прощает виновных из милости к ним. Здесь не говорят дурно о ближних. Здесь не попирают ногами священного очага, но почитают богов молитвой и жертвоприношениями; духу дома бросают кусок мяса в подобающий сосуд, а когда умирает домохозяин, его хоронят с той же молитвой, с которой хоронили его отца и деда».
В другой сатире выступает «наставник старцев», в котором эта пора общего падения, по-видимому, нуждалась еще больше, чем в наставнике молодежи, и рассказывает, как в старину «все в Риме было целомудренно и набожно, а теперь все пошло по-иному». Не обманывают ли меня глаза, говорит он, или я в самом деле вижу рабов, поднимающих оружие против своих господ? Бывало, того, кто не являлся к воинскому набору, продавали от имени государства на чужбину в рабство; теперь (в глазах аристократии) тот цензор, который сквозь пальцы смотрит на трусость и другие пороки, считается великим гражданином и пожинает хвалы за то, что он не намерен составить себе репутацию, обижая своих сограждан. Бывало, римский крестьянин брил бороду раз в неделю; теперь работающий в поле раб думает лишь о том, как бы ее изящнее отрастить. Бывало, в имениях можно было видеть житницы, вмещавшие в себя десять жатв, просторные подвалы для винных бочек и такие же прессы, теперь владелец усадьбы держит стада павлинов и велит делать двери в своем доме из африканского кипариса. Бывало, домохозяйка вертела рукой веретено, а в то же время не теряла из виду и горшка на очаге, заботясь, как бы не подгорела каша, теперь же (говорится в другой сатире) дочь выпрашивает себе у отца фунт драгоценных камней, а жена у мужа — четверик жемчуга. Бывало, в брачную ночь мужчина был безмолвен и смущен, теперь же женщина отдается первому красивому кучеру. Прежде большое число детей составляло гордость женщины, теперь же, когда муж желает иметь детей, она отвечает ему: разве ты не знаешь, что сказал Энний:
Лучше хочу я трижды подвергнуться в битве опасности,
Чем однажды родить.
Прежде жена бывала довольна, если муж катался с ней раз или два в году в повозке с неудобным твердым сиденьем; теперь, мог бы он прибавить (ср. Cicero, Pro Mil., 21, 55), жена ропщет, если муж отправится без нее в свое именье, а за путешествующей дамой следует на виллу элегантная греческая челядь и целый оркестр.
В сочинении более серьезного содержания «Катон, или о воспитании детей» Варрон поучает своего друга, просившего у него совета; он толкует не только о божествах, которым по старому обычаю приносились жертвы за благополучие детей, но, указывая на более благоразумное воспитание детей у персов и на собственную молодость, прожитую в строгих правилах, он предостерегает от закармливания и излишнего сна, от сладкого хлеба и вкусных яств (молодых собак, говорит старик, теперь кормят с большим умом, чем детей), точно так же от ворожбы и молитвы, так часто заступавших в случае болезни место совета врачей. Он советует приучать девушек к вышиванию, с тем чтобы впоследствии они могли верно оценивать достоинство вышивок и ткацких работ, и не снимать с них слишком рано детского наряда; он предостерегает от преждевременной посылки мальчиков в гимнастические и фехтовальные школы, в которых сердце рано грубеет и человек научается жестокости.
В «Шестидесятилетнем мужчине» Варрон является римским Эпименидом, который, заснув десятилетним мальчиком, просыпается спустя полвека. Он изумляется, увидав вместо своей гладко остриженной детской головки старую лысую голову, как у Сократа, с отвратительным лицом и беспорядочной щетиной, как у ежа; но еще более удивляется он совершенно изменившемуся Риму. Лукринские устрицы, в прежнее время — редкое угощение на свадебных пирах, стали теперь ежедневным блюдом; зато разорившийся кутила втайне уже раздувает факел для поджога. Если бывало отец прощал мальчика, то теперь право прощения перешло к мальчику; иначе сказать, сын отплачивает отцу ядом. Площадь, где происходят выборы, стала биржей, уголовный процесс — золотым дном для присяжных. Теперь не повинуются никакому закону, кроме того, который гласит, что даром ничего не дается. Все добродетели исчезли; зато проснувшегося приветствуют в качестве новых обитателей богохульство, вероломство, сладострастие. «О горе тебе, Марк, — после такого сна и такое пробуждение!» Очерк этот напоминает дни Катилины, так как, по-видимому, написан был престарелым автором вскоре после них (около 697 г. [57 г.]), и много правды в горестном заключении, где Марка, получившего хорошую взбучку за несвоевременные обвинения и археологические реминисценции, в насмешку над древним римским обычаем ведут как бесполезного старца на мост и бросают в Тибр. Действительно, для таких людей в Риме не было места.
«Невинных, — говорится в одной речи, — дрожа всеми членами, выводишь ты из дому и велишь их казнить ранним утром на высоком берегу реки». Подобных фраз, которые легко можно вставить в новеллу, у Сизенны встречается много.
Давно уже предполагали, что сочинение о галльской войне было опубликовано единовременно; точным доказательством этого служит упоминание об уравнении прав бойев и эдуев, встречаемое уже в первой книге (гл. 28), тогда как бойи еще в седьмой книге (гл. 10) являются подвластными эдуям данниками, и, по-видимому, только ввиду поведения тех и других во время войны с Верцингеторигом получили одинаковые права с их прежними повелителями. С другой стороны, тот, кто внимательно проследит историю того времени, увидит в отзыве о Милоновом кризисе (7, 6) указание на то, что данное сочинение было опубликовано до начала гражданской войны — не потому, что о Помпее упоминалось тут с похвалой, но потому, что Цезарь одобряет здесь чрезвычайные законы 702 г. [52 г.] (стр. 274). Он мог и должен был это сделать, пока он старался достигнуть мирного соглашения с Помпеем (стр. 293), но не после разрыва, когда он отверг те судебные приговоры, которые были вынесены на основании этих оскорбительных для него законов (стр. 386). Поэтому опубликование этого сочинения с полным основанием относят к 703 г. [51 г.], — тенденция его всего яснее выступает в постоянной и часто (в особенности, может быть, по поводу аквитанской экспедиции, 3, 11) неудачной мотивировке каждого отдельного военного акта как оборонительной меры, неизбежной в силу сложившихся обстоятельств. Как известно, противники Цезаря порицали нападения на кельтов и германцев прежде всего как ничем не вызванные (Suet., Caes., 24).