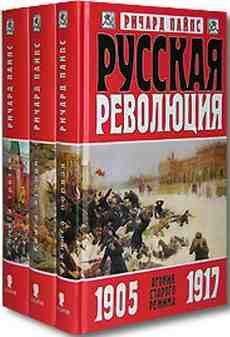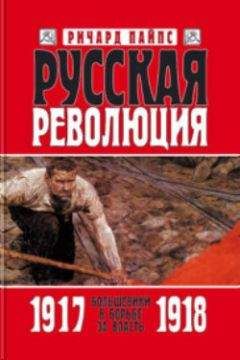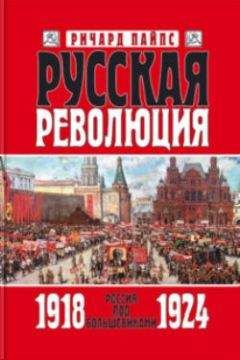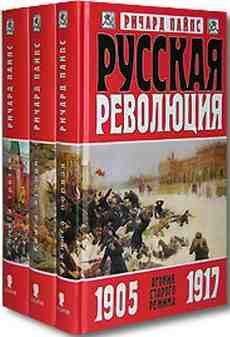Ленин выздоровел поразительно быстро. Это объяснялось крепким здоровьем и волей к жизни, однако его соратники склонны были усматривать здесь вмешательство сверхъестественных сил: им казалось, что сам Господь пожелал, чтобы Ленин жил, а дело его торжествовало. Как только к нему стали возвращаться силы, Ленин вернулся к работе, но вскоре переутомился и вновь почувствовал себя плохо. 25 сентября по настоянию врачей они с Крупской уехали в Горки. Там он провел три недели, выздоравливая. При этом он следил за ходом событий и немного писал, однако основной груз ежедневной работы по управлению страной ему пришлось передать другим. Среди немногих посетителей, которым было позволено его видеть, была Анжелика Балабанова, участница Циммервальдского объединения. По ее воспоминаниям, когда она завела разговор о казни Каплан, Крупская «страшно расстроилась», а позднее, когда они остались вдвоем, проливала по этому поводу горькие слезы. Ленин, по ощущению Балабановой, предпочитал не обсуждать эту тему59. В этот период большевики все еще чувствовали неловкость, расстреливая своих товарищей-социалистов.
В Москву Ленин вернулся 14 октября. 16 октября он побывал на заседании Центрального Комитета, а на следующий день — на заседании Совнаркома. Чтобы убедить народ в том, что он окончательно выздоровел, во дворе Кремля были поставлены кинокамеры, запечатлевшие его разговор с Бонч-Бруевичем. 22 октября состоялось первое публичное выступление Ленина, и с этого времени он вновь полноценно включился в работу.
Непосредственным результатом покушения Каплан стала чудовищная волна террора, беспрецедентного по числу жертв и по той неизбирательности и бессистемности, с которой они уничтожались. Большевики были в самом деле напуганы и действовали так, как, по словам Энгельса, действуют люди, потерявшие от страха голову: подбадривали себя ненужными жестокостями.
Но неудачная попытка покушения на Ленина имела и еще одно, в перспективе не менее важное следствие: она положила начало сознательной политике обожествления Ленина, которая после его смерти вылилась в настоящий восточный культ, поддерживаемый государством. Благодаря стремительному выздоровлению Ленина после почти смертельного ранения его подчиненные, и до этого склонные к благоговению перед ним, прониклись просто мистической верой в него. Бонч-Бруевич очень сочувственно передает слова, сказанные ему одним из лечивших Ленина врачей: «Только отмеченные судьбой могут избежать смерти после такого ранения»60. И хотя «бессмертие» Ленина эксплуатировалось в дальнейшем для достижения вполне земных политических целей — для того, чтобы играть на предрассудках масс, — не приходится сомневаться, что многие большевики искренне считали своего лидера существом сверхъестественным, Христом наших дней, посланным спасти человечество. [Об эволюции культа Ленина см.: Tumarkin N. Lenin Lives! Cambridge, Mass., 1983.].
До покушения Каплан большевики говорили о Ленине в общем довольно сдержанно. Однако в личном общении они выказывали к нему порой чрезмерную почтительность, которой удостаивается не всякий политический лидер. Н.Н.Суханова, например, поразило, что в 1917 году, еще до прихода Ленина к власти, его приверженцы проявляли к нему «пиетет совершенно исключительный» и воздавали ему почести, «как рыцари — Святому Граалю»61. Уже в январе 1918 года Луначарский, один из наиболее интеллигентных и образованных большевистских светил, напоминал Ленину, что он принадлежит теперь не самому себе, но — «человечеству»62. Имелись и другие ранние проявления зарождавшегося культа, и если до поры до времени процесс обожествления не заходил слишком далеко, то только потому, что этому сопротивлялся сам Ленин. Так, он не позволил советским руководителям возродить существовавшие в царской России законы, которые предусматривали суровое наказание за надругательство над портретом правителя63. Его тщеславие странным образом растворялось в успехах общего «дела», удовлетворялось ими и не требовало особого «культа личности».
Личные запросы Ленина были чрезвычайно скромными: в том, что касалось жилья, пищи, одежды, он довольствовался самым необходимым. Безразличие к роскоши, свойственное российской интеллигенции, было доведено у него до предела, и даже в годы, когда он находился на вершине власти, образ его жизни был простым, почти аскетическим. Он «всегда ходил в одном и том же темном костюме с широкими брюками, которые казалось, были ему несколько коротки, и с таким же коротковатым однобортным пиджаком, в мягком белом воротничке и старом галстуке. Галстук, по-моему, в течение многих лет был один и тот же: черный, в белый цветочек, в одном месте слегка потертый»64. Эта простота, которой впоследствии подражали многие диктаторы, не препятствовала — и даже в некотором смысле способствовала — возникновению культа его личности. Ленин был первым из числа современных «народных» лидеров, которые, подчиняя себе массы, остаются по своей внешности и по видимому образу жизни неотличимы от рядового представителя этих масс. Это уже отмечалось как характерная черта диктаторов нашего времени: «В современных абсолютистских режимах лидер не отличается от своих подданных, как отличались тираны в прежние времена, но, напротив, являет собой как бы воплощение общих для них черт. Тиран XX века — это прежде всего «поп-звезда», и его личные качества остаются невыявленными...»65
Литература о Ленине, выпущенная в России в 1917-м и в первые восемь месяцев 1918 года, на удивление бедна66. Все, что было написано о нем в 1917 году, вышло в основном из-под пера его оппонентов, и, хотя большевистская цензура вскоре положила конец этим враждебным выступлениям, сами большевики почти ничего не писали о своем лидере, известном главным образом в их узком кругу. Выстрелы Фанни Кап-лан открыли дорогу ленинской агиографии. Уже 3—4 сентября 1918 года Троцкий и Каменев выступили со славословием Ленину, которое было выпущено тиражом 1 млн. экземпляров67. Примерно в то же время Зиновьев напечатал свой панегирик Ленину тиражом 200 тыс. экземпляров, а его короткая популярная биография вышла тиражом 300 тыс. экземпляров. По словам Бонч-Бруевича, как только Ленин поправился, он остановил это извержение68, но в 1920 году позволил повторить то же самое в несколько более скромных масштабах в связи со своим пятидесятилетием и окончанием гражданской войны. Однако к 1923 году, когда состояние здоровья заставило Ленина отойти от активной деятельности, ленинская агиография превратилась уже в настоящую индустрию, в которой были заняты тысячи людей — как в иконописном деле в дореволюционной России.
Странное впечатление производит эта литература на современного читателя: ее почтительная, приторно-сентиментальная интонация резко контрастирует с тем грубым языком, которым большевики обычно изъяснялись по другим поводам. Образ Спасителя человечества, снятого с креста и затем воскресшего из мертвых, с трудом сочетается с мотивом «беспощадной борьбы» со всеми его врагами. Так, Зиновьев, который хотел заставить «буржуазию» жрать солому, говоря о Ленине, называет его «апостолом мирового коммунизма», «вождем Божьей милостью» — почти как Марк Антоний, который в речи над гробом Цезаря превознес его как «божество небесное»69. Иные коммунисты шли еще дальше, например, один поэт писал о нем, как о «непобедимом посланце мира в терновом венце клеветы». Такие параллели, намеки на нового Христа, были вполне обычными в советских публикациях конца 1918 года. Власти, одной рукой распространявшие их массовыми тиражами, другой рукой тысячами казнили заложников70.
Формально советский лидер, конечно, не был обожествлен, но качества, которые приписывались ему в официальных публикациях и выступлениях — всеведение, непогрешимость и, по сути, бессмертие, — не оставляли сомнений на этот счет. «Культ гения», созданный в советской России по отношению к Ленину, значительно превосходил аналогичные культы Муссолини и Гитлера, созданные впоследствии по его образцу.
Почему же режим, стоявший на позициях материализма и атеизма, пошел на создание такого квазирелигиозного культа политического деятеля? На этот вопрос есть два ответа: первый объясняет это внутренними нуждами Коммунистической партии, второй — ее взаимоотношениями с народом, которым она управляла.
Хотя большевики заявляли о себе как о политической партии, в действительности дело обстояло совершенно иначе. Они являли собой скорее орден, объединившийся вокруг избранного вождя. Их сплотила не программа или платформа, — которые могли в любой момент измениться по желанию руководителя, — но сама личность их лидера. Его интуиция и воля — вот что направляло действия коммунистов, а отнюдь не объективные принципы. Ленин был первым политическим деятелем нашего времени, которого называли «вождем». Он был необходимой фигурой, ибо без его руководства однопартийный режим не мог сохранять свою целостность. Коммунисты персонализировали политику, отбросив ее назад к тем временам, когда государство и общество направлялись человеческой волей, а не законом. Это требовало от вождя бессмертия, если не в буквальном, то, по крайней мере, в переносном смысле: он должен лично вести за собой общество, а после его смерти последователи должны были иметь возможность править от его имени, то есть так, будто он прямо и непосредственно вдохновляет все их действия. Поэтому лозунг «Ленин жив!», выдвинутый после смерти вождя, был не просто пропагандистским трюком, но выражал самую суть коммунистического способа правления.