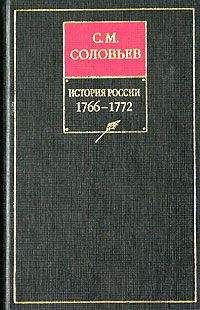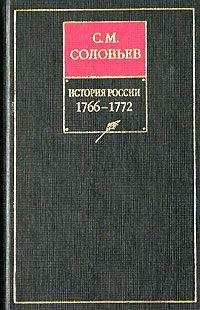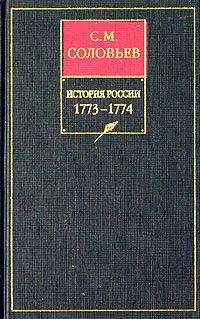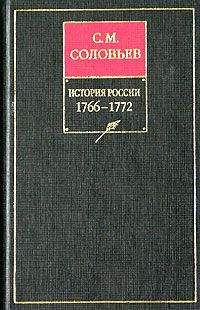Но Фридрих II давно уже начал утешать свою союзницу насчет «кучера Европы». Прусский король знал, что Людовик ХV женщине, не скажу любимой (это было бы слишком чисто), женщине, умевшей угодить ему, готов пожертвовать министром, как бы тот ни был полезен для Франции; прусский король, зная это, считал падение Шуазеля очень возможным и в начале 1769 года писал Екатерине, что в Версали идет сильное движение против Шуазеля, стараются его свергнуть посредством графини Дюбарри, ставшей королевскою любовницею; с Шуазелем, писал Фридрих, падут все его проекты, потому что новые министры обыкновенно ведут дела наоборот, чем как они шли при их предшественниках. Через два года предсказание оправдалось. В конце 1770 года Шуазель, не могший унизиться до раболепства пред Дюбарри, был низвержен и сослан; его место занял герцог Эгильон из партии Дюбарри.
Удалением Шуазеля значению Франции в делах Европы нанесен был решительный удар. Эгильона нельзя было назвать человеком неспособным, не понимавшим интересов Франции; но прежде всего это был человек партий; и главное внимание его было обращено не на внешние дела, а на придворные интриги, на борьбу партий, от исхода которой зависела его судьба; с другой стороны, ему было очень приятно, когда дела Шуазеля разделывались, когда можно было упрекнуть ненавистного предшественника в ошибочности его замысла или распоряжений. Но Эгильон ограничивался упреками на словах; он был рад, когда предприятия Шуазеля не удавались, но самому разделать дела предшественника, вдруг переменить старую систему и создать новую — для этого у него недоставало ни времени, ни энергии, ни способностей. Какое из Шуазелевых дел шло успешно, тому Эгильон не мешал доделываться, например шведскому делу; начать же что-нибудь новое было для него тяжело: так, ему хотелось сближения с Россиею, он был бы рад действовать тут совершенно вопреки поведению Шуазеля, но он начал поздно и вел дело чрезвычайно медленно. Не было общего плана действия, не было ничего выясненного.
В начале 1772 года русский поверенный в делах Хотинский имел разговор с герцогом Эгильоном по поводу мирных условий, предложенных Россиею Турции. Когда Хотинский заметил, что пожертвование Молдавиею и Валахиею с русской стороны должно вести к миру, то Эгильон выразил сомнение во всей своей наружности и вскрикнул: «А Крым к чему? — потом, немного помолчав, прибавил: — Вы знаете, что турки не хотят ничего уступить». Хотинский заметил: «Какое же будет вознаграждение за полученные нашим оружием успехи и понесенные убытки?» Герцог отвечал с холодным видом и вполголоса: «Думаю, что вознаграждение это будет состоять в деньгах. По турецким приготовлениям видно, что Порта вовсе не отказывается от четвертой кампании. Турки знают, что ваши эскадры не в состоянии больше держаться в море, чему и дивиться нечего, когда принуждены десять месяцев в году отправлять службу; от этого корабли испортились и люди гибнут. Турки знают, что пополнение армии рекрутами становится вам трудно по причине мора; остававшиеся в государстве полки истощены; в деньгах также большой недостаток, так что самим министрам вашим платится жалованье бумагою». «Уже с самого начала войны, — сказал Хотинский, — слыхал я такие рассуждения; давно ждут, что мы истощимся. Правда, война нам тяжела; но так как у нас нет государственного долга и содержание войска стоит дешевле, чем в других странах, то и можем мы вынести военные издержки долее других государств, которые и побогаче нас. Что касается флота, то возвращавшиеся с него чрез Францию переводчик Лизакевич и поручик Прощин сказывали мне, что на эскадрах все благополучно». «Набор страшно тягостен для дворянства, — возразил Эгильон, — теперь принуждены давать осьмого человека». «Вам сообщено ложное известие, — сказал Хотинский, — набирают 80000 человек, следовательно, жребий падает с лишком на сотого человека, ибо в подушном окладе записано более 9 миллионов душ». «У нас есть обстоятельные известия, — продолжал герцог, — вычтя детей, стариков и вольных людей, немного останется годных в службу. План вашей государыни содержать армию в Крыму, другую на Дунае и флот в архипелаге, бесспорно, хорош, славен и велик, но такие планы должны быть маскированы, иначе в случае продолжительности войны не имеют ожидаемого успеха; примером служит наш поход в Баварию: первая кампания была блестяща, а после армия исчезла от болезней и недостатка в рекрутах». Когда Хотинский распространился о пользе бумажных денег, то Эгильон отвечал: «Вообще этот легкий способ приобретать деньги вреден, потому что обыкновенно ведет к злоупотреблениям. Мне нечего вам говорить, какие от того. у нас родились беды, вы сами их видите».
В марте был другой любопытный разговор. Эгильон: Равновесие в Европе нарушится, если вы успеете предписать туркам мир на трех условиях: свободное мореплавание по Черному морю, гавань на нем и независимость татар. С такими выгодами вы скоро будете и в Константинополе, и тогда кто вас оттуда выживет? Хотинский : Кто захочет. Эгильон : Кто же это? Хотинский (с улыбкою): Вы первые, потом австрийцы и англичане. Эгильон : Тогда уже будет поздно. Хотинский : Неужели вы серьезно так думаете? Эгильон : Совершенно серьезно. Хотинский : В таком случае и я вам признаюсь, что выгоды, которые мы себе выговариваем, более славны для нас, чем полезны, ибо что касается мореплавания, то представляю вам в пример, какой успех имеем мы на Балтийском море, которое нам открыто. Вы знаете, что нашу торговлю производят чужие народы, и, несмотря на все старания поощрять наш народ к морской торговле, он на это не поддается, из чего ясно видно, что нет в нем к этому промыслу склонности. Крымские татары останутся независимыми. Эгильон : Какая может быть их независимость? Вы уже выбрали им и хана, который будет вам предан. Когда вам понадобится, нашлете вы их на Венгрию и другие австрийские земли, которые они разорят прежде, чем венский двор успеет оглянуться и собрать рассеянные по Италии и Фландрии свои войска. Можно ли вам предписать, чтоб вы имели на Черном море только десять, двадцать или тридцать кораблей и о скольких пушках? Вы и так уже сильны с королем прусским; вы теперь дружны с ним, и он все вам позволяет, но со временем и с ним вы справитесь. Вы безопасны по своему положению: кто пойдет нападать на вас в такую даль? Впрочем, вы делаете хорошо, настаивая на получении этих выгод. Я бы то же на вашем месте сделал, но сомневаюсь, чтоб турки вам уступили.
11 марта Хотинский в первый раз сообщил своему двору о парижских слухах, что Россия, Пруссия и Австрия сговариваются насчет раздела Польши. 27 марта Хотинский был у Эгильона, который повторил ему прежнее: «Если турки отступятся от Крыма, то чрез два года он будет в ваших руках, а Константинополь — чрез четыре». Но многозначительнее было восклицание герцога в конце разговора: «Венский двор сделал великую ошибку!» В разговоре, происходившем в апреле, Хотинский между прочим сказал Эгильону: «Право, герцог, надобно бы вам оказать услугу и туркам, и нам, и всему человечеству, уговорив Порту быть посговорчивее». «Как, вы хотите, — отвечал Эгильон, — чтоб мы подали такой совет, когда мы же и побудили турок к войне? Сверх того, наш кредит не очень велик. Сделали глупость, что позволили пройти вашему флоту». От 26 апреля Хотинский писал Панину: «Здесь совершенно уверены, что должен последовать раздел некоторой части Польши между Россиею, Австриею и Пруссиею. Как на нас сердятся и попрекают нам по этому делу, можете себе вообразить. Не думали здесь, чтоб когда-либо венский двор согласился на раздробление Польши, способствующее усилению нашему, а больше всего короля прусского, государя предприимчивого и без того уже опасного австрийскому дому».
«Что скажет Франция, что скажет Испания, Англия, когда мы теперь вдруг так тесно соединимся с теми, которых мы так сильно желали сдерживать и которых поведение объявляли несправедливым?» — писала Мария-Терезия, противясь приступлению Австрии к разделу Польши. Кауницу, разумеется, не было дела до того, что скажут Испания и Англия; но он долго бы думал о том, что скажет Франция, если б ее внешними сношениями управлял Шуазель. Но с Эгильоном он не считал нужным церемониться. Знаменитый Южный союз — австро-франко-испанский, созданный Шуазелем, который один мог его поддерживать, без Шуазеля ослабел, оставался недеятельным; Австрия перестала надеяться на помощь Франции, на ее влияние и потому перестала и бояться ее: Иосиф и Кауниц не заботились более о том, что скажет Эгильон или Людовик XV. Еще в июне 1771 года граф Брольи писал королю по поводу неудач Дюмурье: «Найти средство против всего этого не было бы очень трудно, если бы венский двор желал добра этой несчастной нации, но я подозреваю, что он не желает видеть ее победоносною; пораженная, она скорее подчинится законам, которые хотят ей предписать, и честолюбивые соседи именно желают видеть ее в этом положении. Только в. в-ство может ей помочь. Новое министерство (Эгильона) не сумеет еще понять, как судьба этой республики политически должна интересовать Францию; новый посол, которого назначают в Вену (принц Роган), поймет это еще менее. Таким образом, провидение соединяет все обстоятельства для разрушения наших интересов и нашей системы в этой части Европы». Но эти внушения не производили никакого действия. Людовик XV раньше и определеннее знал о плане раздела Польши. Французский посланник в Берлине доносил еще в марте 1771 года о словах, сказанных ему шведским министром при прусском дворе: «Все кончено; прусский король все обделал, и мир (России с Турциею) будет подписан до истечения четырех месяцев. Польша заплатит за все». В самом начале 1772 года Людовик XV писал графу Брольи, что герцог Эгильон обратился к австрийскому послу графу Мерси д'Аржанто, чтоб выведать от него, не желает ли Австрия «получить свою долю в польском пироге, как все заставляет думать». Мерси наконец объяснился с Эгильоном о разделе Польши: он представил, что опасность, какою грозили Австрии соединенные силы России и Пруссии, заставила императора и императрицу принять участие в разделе, которому они не могли помешать. Венский двор сознает несправедливость дела, но именно для уменьшения несправедливости он счел своею обязанностью принять в ней участие, думая, что это было единственным средством положить ей границы, при этом доля, достающаяся его государям, так мала в сравнении с приобретениями других держав, что венский двор только с прискорбием может смотреть на событие, наклоняющее весы далеко не в его пользу. Что касается молчания, которое соблюдал венский двор о своих сношениях по этому предмету с Россиею и Пруссиею, то такое же молчание наблюдало и правительство французское: венскому двору известно, что герцог Эгильон сносился с прусскими эмиссарами и объявил одному из них, что Франция будет смотреть равнодушно на то, что станут делать с Польшею. Прусский король дал знать в Вену о желании Франции сблизиться с ним. Таким образом, венский двор, видя, что не может полагаться вполне на Францию, должен был принять предосторожности против бури, которой один он не мог противиться.