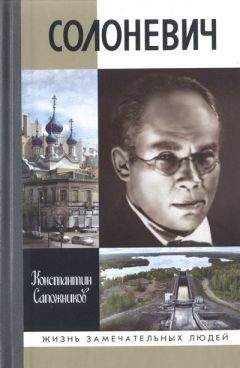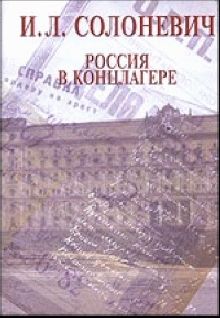Но мы проворонили. На второй день революции город был во власти революционного подполья. Какие-то жуткие рожи - низколобые, озлобленные, питекантропские, вынырнули откуда-то из тюрем, ночлежек, притонов - воры, дезертиры, просто хулиганье. И по всему городу шла "стихийная" охота за городовыми.
Почему именно за городовыми? Тогда я этого никак не мог понять. Можно было себе представить, что победившая революция постарается истребить своего наследственного врага - политическую полицию, "охранку" царского режима. Но городовые никакой политикой не занимались. Они регулировали уличное движение, подбирали с мостовых пьяных пролетариев, иногда ловили трамвайных воришек и вообще занимались всякими такими аполитичными делами, совершенно так же, как лондонские или нью-йоркские Бобби. За что же их-то истреблять?
Но зловещие люди гонялись за ними, как за зайцами на облаве. Возникали слухи о полицейских засадах, о пулеметах на крышах, о правительственных шпионах, и Бог знает, о чем еще. Мой знакомый, любитель фотографии, был пристрелен у своего окна: он рассматривал на свет только что отфиксированную пластинку - его приняли за шпиона. При мне банда зловещих людей около часу обстреливала из пулемета пустую колокольню: какой-то старушке там померещился поп с "пушкой" - о том, как именно поп смог бы втащить трехдюймовое орудие на колокольню и что бы он стал из этого орудия обстреливать, зловещие люди отчета себе не отдавали. Они еще находились в состоянии истерической спешки: шли и другие слухи - о том, что к Петербургу двигаются с фронта правительственные войска, и что, следовательно, дело может кончиться виселицами; о том, что какие-то юнкера заняли какие-то подходы к столице - вообще дело еще не совсем кончено. Нужно торопиться. Зловещие люди явно торопились: Carpe diem. Наиболее сознательные из них подожгли здание уголовного суда.
Тогда я тоже не мог понять: при чем тут уголовный суд? Огромное здание пылало из всех своих окон, ветер разносил по улицам клочки обожженной бумаги. Я нагнулся, поднял какую-то папку, и сейчас же около меня возникла увешанная пулеметными лентами зловещая личность: "тебе чего здесь, давай сюда!" Я послушно отдал папку и отошел на приличную дистанцию. Зловещие люди тщательно подбирали все бумажки и также тщательно бросали их обратно в огонь.
Смысл этого "ауто да фе" я понял только впоследствии: тут, в здании уголовного суда, горели справки о судимости, горело прошлое зловещих людей. И из пепла этого прошлого возникало какое-то будущее. Но - какое? если об этом не догадывался даже профессор Милюков, то как о нем могли дать себе отчет люди, только что вынырнувшие из уголовного подполья? Так, в 1789 году такие же зловещие люди жгли парижский уголовный суд. А в 1944 - какие-то люди из бельгийского "движения сопротивления" подожгли брюссельский Дворец Правосудия. В Гамбурге в 1933 - гамбургский суд; в Берлине - берлинский. Что общего имеет дело освобождения Родины от немецких оккупантов с бельгийскими справками о судимости?
Прошлое было сожжено. Что оставалось для будущего? Если с фронта придут апокрифические правительственные дивизии - будущее станет совершенно ясным: виселица или снова тюрьма. Но если не придут? Если проклятый царский режим будет свергнут окончательно и бесповоротно и на месте его возникнет истинно демократическая республика? Что тогда станут делать зловещие люди? Сдадут свои пулеметные ленты в какую-то новую полицию? И возьмутся за тот "свободный и мирный труд", которым они в жизни своей никогда не занимались? А если бы и случилось заниматься, то разве им, творцам новой, невыразимо прекрасной жизни и завоевателям нового, невыразимо прекрасного общественного строя, снова опускаться на какое-то дно жизни, становиться за станок - это в дни всеобщего, революционного праздника, в дни воскресения зловещих людей из праха справок о судимости? Вдумайтесь в их положение и вы сами увидите, что кроме "углубления революции", "перманентной революции", как это сформулировал Троцкий, им не оставалось ничего. И они, вооруженная масса городских подонков, не могли не пойти за Троцким и Лениным - ибо все остальное грозило бы им, по меньшей мере, возвращением в первобытное состояние, возвратом на общественное дно. Они, эти люди, рыскали потом с митинга на митинг, поддерживая своими глотками и своими винтовками тех вождей, которые обещали наивысшую плату в самый короткий срок. Которые предлагали наиболее полную гарантию от репатриации зловещих людей в ночлежки, тюрьмы и притоны. Наивысшую цену и в кратчайший срок предложил Ленин. Если бы он поцеремонился и усовестился, нашлись бы другие - менее церемонные и менее совестливые.
Так, на моих глазах шел великий аукцион революции: кто дает больше и еще - кто даст скорее. В этом истинно социалистическом соревновании автоматически было сметено все, в чем была совесть. Потом, впоследствии, научные обозреватели социальной революции будут все это взваливать на плечи многострадального пролетариата. Обозреватели революционные, - чтобы сказать: "с революцией был весь пролетариат". Реакционные, - чтобы сказать: "вот он, ваш пролетариат". Опытом всех семнадцати лет революций могу засвидетельствовать категорически: пролетариат был тут совершенно не при чем.
Но вот: справки сожжены, бриллианты ограблены, городовые перебиты. На тысячах митингов прощупывается связь между "массой" и "вождями". "Массы" жаждут гарантии от тюрьмы и виселицы. Но той же гарантии жаждут и вожди. Массы требуют наибольшей платы и вожди требуют наибольшей "бдительности". В самом деле: что станется с вождями, если масса дифференцируется, разбредется, или просто займется пропиванием награбленной движимости? С чем тогда останутся вожди? И вот, от зловещих вождей зловещей банды идет исторически повторяющийся и логически неизбежный "караул": "революция в опасности". "Завоевания революции в опасности". Идет полиция и несет с собою виселицы. Caveant pitecantropes. "Революционный держите шаг - неугомонный не дремлет враг". Враг мерещится из-за каждого угла, и за каждым углом он действительно сидит. Но враг мерещится и там, где его и в помине нет. Начинается охота: за "подозрительными" французской революции, "контрреволюционерами" - русской, "предателями народа" - германской. Воздвигаются гильотины, виселицы и плахи; начинается террор. И - от первого дня революции до самого ее последнего дня, до самого последнего дня - идет смертельная, звериная борьба между пролетариатом и революцией. Самым страшным врагом революции является именно пролетариат - ибо он, а не "буржуазия", умирает с голоду.
Итак: революция совершена. Старый режим свергнут. Сейфы ограблены. Хлебных очередей больше нет, ибо нет хлеба. Зловещие люди, успокоившись от своих страхов по поводу "фронтовиков", идущих наводить порядок, хлынули в игорные дома. Игорные дома в Петербурге в 1917 году росли так же, как и в Париже в 1789. Краса и гордость революции швырялась кредитками и золотом, золото и кредитки уходили так же быстро, как и пришли: зловещие люди не отличаются предусмотрительностью. Рабочий Петербург, как и рабочий Париж, начинали голодать совсем всерьез: это рабочие, а не буржуазные жены стояли по ночам в парижских и петербургских очередях, это пролетарские, а не буржуйские дети попадали в беспризорники. У "буржуазии" что-то оставалось и "буржуазия" всегда имела свои пути за границу. Голодал, мерз и гиб - именно пролетариат.
Итак: городовой истреблен, буржуй ограблен, хлеба нет, пролетариат глухо волнуется, а зловещие люди, дураки, расходятся по своим собственным делам: по притонам, кабакам, игорным домам. С чем же остаются вожди? На что опереться вождям? Нужен вопль о новом "взрыве энтузиазма". "Революция в опасности! Революция в опасности!" Король пытается покинуть Париж. Корнилов пытается захватить Петербург. Гидра контрреволюции свила себе гнездо в Кобленце. Гидра контрреволюции свила себе гнездо на Дону. Тираны лондонской биржи готовят петлю для завоевателей революции! Капиталисты лондонской биржи готовят петлю для революции. Товарищи питекантропы! Над вашими головами качается петля! Революционный держите шаг! Бросайте ваши притоны - дело идет о петле и о жизни! Aux armes, citoyens! К оружию, товарищи!
Товарищи бросают карты и берутся за винтовки - дело действительно идет о петле или о жизни, на это соображение хватает мозгов даже и у них... Вот так оно и идет: от самого первого дня революции до самого последнего. Иначе не бывает, иначе быть не может...
...Ровно двадцать лет спустя после нашей революции, в 1937 году я попал в Париж, во время парижской всемирной выставки. Я не был на положении туриста. Мне приходилось вести поистине чудовищную работу и не было никакого времени следить за французским общественным мнением, и не было даже времени посетить выставку. Были основания опасаться коммунистического покушения, и мои друзья держали меня в положении, так сказать, "усиленной охраны". Я видел очень мало. Но то, что я видел, было жутко.