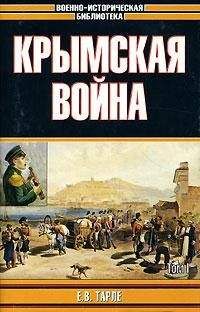Власти ждали беспорядков, были, так сказать, в боевой готовности, но хотя они этих беспорядков не желали и даже полного спокойствия, быть может, и не чувствовали, однако не настолько, чтобы отказаться от мысли уничтожить благотворительные мастерские.
Слух, о котором писал 21 мая Гувион, осуществился через три недели с лишком — 16 июня 1791 г. В этот день на трибуну Национального собрания взошел Ларошфуко-Лианкур с докладом и проектом уничтожения благотворительных мастерских.
Ларошфуко-Лианкур начал с исторического очерка этих мастерских, причем с особенным ударением отмечал, что народные представители, собственно, давно уже знали о ненормальности в положении этих учреждений, но соображения, в основе которых лежала гуманность, заставляли откладывать их закрытие, несмотря на разорительность для казны [24]. Теперь же настал момент сделать это. Докладчик характеризует мастерские как учреждения, не только требующие огромных расходов, но и бесполезные, развращающие рабочих. Возможность и необходимость уничтожить сейчас благотворительные мастерские мотивируется и общим оживлением промышленной деятельности, которую Ларошфуко-Лианкур описывает в самых ярких красках [25]. Работы больше, чем рабочих, по его заявлению, и вот образовалась даже стачка с целью повышения заработной платы, и эта стачка уже одна показывает, что рабочих меньше, нежели средств работы. «Ведь не может быть обстоятельства, более благоприятного для того, чтобы приказать уничтожить мастерские (aucune circonstance ne peut donc être plus propice pour ordonner la rupture des ateliers)». Это — фраза решающая. Она показывает, помимо других доводов, что не столько соображения экономии, сколько именно стачка ускорила гибель благотворительных мастерских. И любопытно, что Ларошфуко-Лианкур, как бы сам не вполне доверяя впечатлению, которое могли произвести его слова об изобилии работы и о полной возможности для рабочих приискать себе дело, спешит предложить Собранию открыть некоторые отдельные земляные и строительные работы и ассигновать на это 2,6 миллиона ливров.
И уже тогда «все предосторожности», обусловливаемые «гуманностью» и «осторожностью», будут приняты, и, заявляет докладчик, «вы можете тогда без беспокойства издать декрет, который общественное мнение и даже хорошо понятый интерес этих рабочих уже давно просят у вашей мудрости» [26].
Прения, последовавшие после прочтения доклада, имеют мало принципиального интереса. Подчеркивалось, что администрация считает рабочих опасными [27]; говорилось, что «благо государства зависит от того, чтобы не увольнять в момент, подобный настоящему, людей, которые могли бы распространить беспорядки в королевстве»; Малуе, член правой, спрашивал, «приняты ли муниципалитетом Парижа меры к тому, чтобы внезапное уничтожение благотворительных мастерских не нарушило общественного спокойствия» [28]. Ларошфуко-Лианкур успокоил Малуе, заявив, что «министр и командующий национальной гвардией, директория департамента и муниципалитет» были приобщены к совещанию о декрете. Краткие и несущественные возражения делались относительно распределения сумм, ассигнуемых на новые работы, и т. д. Декрет прошел в тот же день, 16 июня 1791 г., и благотворительные мастерские перестали существовать.
Беспокоился не только Малуе, но и лица, ближе его стоявшие к делу. Уже в самый день 16 июня 1791 г. мэр Бальи писал Лафайету [29]. «Я полагаю, — писал он, между прочим, — что Национальное собрание решится на это (т. е. уничтожение мастерских), только принявши величайшие предосторожности, чтобы по крайней мере большей частью пристроить увольняемых рабочих… Как бы ни были мудры эти предосторожности, мы извещены, что один только проект уничтожения мастерских вызывает ропот, уже веет дух возмущения. Мы вас просим, monsieur, держать возле мастерских силы, достаточные, чтобы сдержать рабочих. Вы отдадите необходимые приказания, чтобы поддержать спокойствие в тех мастерских, которые вам известны, а скоро мы препроводим вам список мест, за которыми нужно особое наблюдение».
Беспокойство не оправдалось. 28 июня рабочие подали Национальному собранию петицию [30], в которой умоляли взять назад декрет об уничтожении мастерских. Они говорили в петиции об ожидающей их «братской могиле», о своем отчаянном положении, о преданности революции и ее началам. «Мы убеждены, что патриотизм побудил вас закрыть мастерские, потому что их изображали перед вами как прибежище для разбоя; мы не будем спорить, что в мастерских были подозрительные люди, но за что мы отвечаем, — это, что большинство — очень добрые патриоты, на которых нация не может жаловаться и которые пожертвуют всем до последней капли крови для поддержания конституции» и т. д. Открываемые новые работы могут прокормить лишь часть нуждающихся. Плачась на свою горькую участь, они не перестают уверять в своей преданности «высокому собранию, конституции, революции» и т. д. Рабочие, подавая петицию, просили позволения принести присягу на верность конституции. Отвечал им президент Национального собрания Александр Богарне. В нескольких словах он сказал, что Собрание имеет право на их доверие и с ударением указывал на необходимость подчиняться законам. Через 3 дня они пришли с новой петицией, но Собрание не выслушало ее и велело передать о ней директории департамента [31]. 3 июля начались было беспорядки (направленные, впрочем, против смотрителей работ) среди рабочих, занятых некоторыми работами на Марсовом поле. Тотчас же мэр предложил Лафайету принять меры и послать пехоту и кавалерию [32]; беспорядки, которые могли бы стать началом волнений безработных, прекратились без последствий. Работы получили из всех уволенных всего около 5–8 тысяч человек.
Был момент, когда беспокойство стало охватывать часть населения, и властям доносили 3 июля поздно вечером, что на другой день готовится сборище 22 тысяч (из числа уволенных рабочих) [33], что грозят несчастья, что открытые взамен благотворительных мастерских работы недостаточны и нужно что-нибудь сделать для рабочих. Демократически настроенная часть буржуазии роптала на то, что власти не считаются в своих действиях с тревожным моментом: ведь дело происходило в тот именно промежуток времени, который отделяет бегство в Варени от манифестации 17 июля. «Но известно, в каких видах муниципалитет выбрал для полного прекращения работ момент кризиса, когда все партии разгорячены, когда малейшее внутреннее возбуждение может стать опасным», — жаловались «Les Révolutions de Paris» [34]. Газета даже подозревала измену в этом прекращении работ. Рабочие сборища происходили последовательно на Вандомской и на Гревской площадях.
3 июля на Гревской площади уволенные требовали работ, и громко некоторые говорили, что они пойдут в Тюльери и будут кричать: «Да здравствует король!» [35]. Эта и подобные им любопытные угрозы контрреволюционными действиями могли и беспокоить публицистов только что цитированной газеты. И тем характернее, что контрреволюционная пропаганда именно в этот момент не подавала признаков жизни. Рабочие хотят грозить властям контрреволюционерами, но сами контрреволюционеры молчат (об этом речь еще будет в главе VI). 4 июля рабочие в третий раз обратились к Национальному собранию. Тут они уже не просят, а прямо грозят: «Господа, рабочие общественных работ обращаются к вам в третий и последний раз. Голод начинает их мучить, и контрреволюционеры радуются этому, они (рабочие) читают это слишком ясно на их лицах. Они вас умоляют, господа, они настаивают, они вас просят принять как можно более скорые меры, чтобы добыть им хлеба в это — с сегодняшнего же дня, даже с этого момента, ибо им это нужно тем или иным способом (soit d’une façon, soit d’autre — подчеркнуто — Е. Т.). Они вам кричат все, — и это крик 25 тысяч людей, три четверти которых имеют в столице жен и детей, — чтобы вы восстановили благотворительные мастерские по крайней мере до конца конституции» (т. е. до конца работ Учредительного собрания), «уничтоживши вкравшиеся в них (в мастерские — Е. Т.) злоупотребления. Нужда, самая гнетущая нужда, и ничто другое заставляет их так говорить».
В Сент-Антуанском предместье чуть не начались крупные беспорядки: рабочие завладели артиллерией полицейского поста, и национальная гвардия с трудом отняла ее у завладевших [36].
Национальная гвардия склонна была к решительным репрессиям, и власти тоже обнаруживали намерения весьма суровые, даже пугавшие демократически настроенных публицистов [37], несмотря на то, что они не одобряли поведения толпы.