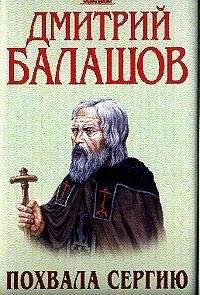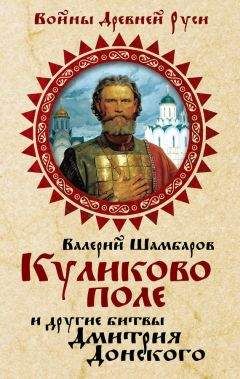Конь, уже завернувши, тяжко бежит, разгребая снег, и внезапно, прянув, дергает посторонь. Кирилл, нагнувшись, подхватывает едва видный крохотный комочек обмороженного тряпья, кидает в сани. Конь – хороший боевой конь боярина – идет тяжелою рысью, изредка поворачивая голову, дико глядит назад…
В хоромах беглецов затаскивают в подклет: прежде всего спрятать! Там снегом растирают обмороженных, вливают в черные рты горячий сбитень. Мечется пламя лучин в четырех светцах, дымится корыто с кипятком. Мария, со сведенными судорогой скулами, молча и споро забинтовывает увечную руку обмороженного мужика, а тот, кривясь от боли, скрипит зубами, и только бормочет: – «Спаси Христос, спаси Христос, спаси… Спасибо тебе, боярыня!» Стонет, качаясь, держась за живот, старуха. Мечутся слуги. Сенные девки, нещадно расплескивая воду, обмывают страшную, в бескровной выпитой наготе, потерявшую сознание беременную бабу. Голова на тонкой шее бессильно свесилась вбок, тонкие, распухшие в коленах и стопах ноги, покрытые вшами, волочатся, цепляясь, по земи, никак не влезают в корыто.
Стефан путается под ногами людей, силясь помочь, хватает то одно, то другое, ищет, кого бы послать на поварню.
– Живей! Ты! – кричит сорвавшимся, звенящим голосом мать, – где горячая вода?! – И он, забыв искать холопа, сам хватает ведро и, как есть без шапки, несется за кипятком.
Другой мужик, в углу, молча и сосредоточенно кривясь, сам отрезает себе ножом черные неживые пальцы на ногах. Одна из подобранных жёнок вставляет новые лучины в светцы. Кто-то из слуг раздает хлеб…
Кирилл, весь в снегу, входит, пригибаясь под притолокою, и молча передает жене маленький тряпичный сверток. Мария, тихо охнув, опускается на колени: – «Снегу! Воды!» – Девочка лет пяти-шести, не более (это та самая девчушка, что нашли у околицы), открывает глаза, пьет, захлебываясь и кашляя; тоненьким хриплым голоском, цепляясь за руки боярыни, тараторит:
– А нас в анбар посадивши всех, а матка бает: – ты бежи! – А я пала в снег, и уползла, и все бежу, бежу! Тетка хлеба дала, ото самой Твери бежу, где в стогу заночую, где в избе, где в поле, и все бежу и бежу, – свойка у нас, материна, в Ярославли-городи!
Глаза у девчушки блестят, и видно, что она уже бредит, хрипло повторяя: – «А я все бежу, все бежу…»
– В жару вся! – говорит мать, положив руку ей на лоб, и шепотом прибавляет: – Бедная, отмучилась бы скорей!
Стефан стоит, сгорбясь, нелепо высокий. Он только что притащил дубовое ведро кипятку и, коверкая губы, смотрит, не понимая, не в силах понять, постичь. От самой Твери?! Досюда? Столько брела? Такая сила жизни! И – неужели умрет?!
Мать молча задирает вонючую рубаху, показывает. На тощем тельце зловеще лоснятся синие пятна, поднявшиеся уже выше колен, в паху и на животе. «Не спасти!» – договаривает мать. У самой у нее черные круги вокруг глаз, и она тоже смотрит на девочку безотрывно, стонно Стефану, шепчет про себя:
– Господи! Такого еще не видала!
– Унеси в горницу! – приказывает она сыну. Стефан наклоняется над дитятей, но тут, ощутив смрад гниющего тела, не выдерживает, с жалким всхлипом, не то воем, закрывает руками лицо и бросается прочь.
Мария, натужась, сама подымает ребенка и несет, пригибаясь под притолокою, вон из дверей. Она вовсе не замечает, с натугою одолев крутую лестницу, что за нею топочут маленькие ножки, и в горницу прокрадывается Варфоломей. Мария, в темноте уронив девочку на постель, долго бьет кресалом. Наконец трут затлел, возгорелась свеча. И тут, оглянувши в поисках помощи, она видит пятилетнего своего малыша, который глядит серьезно и готовно, и, не давши ей открыть рта, сам предлагает:
– Иди, мамо! Я посижу с нею!
Мария, проглотив ком в горле, благодарно кивает, шепчет:
– Посиди! Скоро няня придет! Вот, – шарит она в глубине закрытого поставца, – молоко, еще теплое. Очнется, дай ей! – И, шатнувшись в дверях, уходит опять туда, вниз, где ее ждут, и где без хозяйского глаза все пойдет вкривь и вкось.
Девочка, широко открывши глаза, смотрит горячечно. Варфоломей подходит к ней и, остановясь близко-близко, начинает гладить по волосам.
– А я все бежу, бежу… – бормочет девочка.
– Добежала уже! Спи! – говорит Варфоломей, словно взрослый. – Скоро няня придет! Хочешь, дам тебе молока?
– Молоко! – повторяет девочка жарким шепотом и, расширив глаза, смотрит, как Варфоломей осторожно наливает густую белую вологу в глиняную чашечку и медленно, боясь пролить, подносит ей. Девочка пьет, захлебываясь и потея. Потом, отвалясь, показывает глазами и пальцем: – «И ты попей тоже!» – Варфоломей подносит чашку ко рту, обмакивает губы в молоко, кивает ей: – «Выпил!» – девочка смотрит на него долго-долго. Жар то усиливается, то спадает, и тогда она начинает что-то понимать.
– Я умираю, да? – спрашивает она склонившегося к ней мальчика.
– Как тебя зовут?
– Ульяния, Уля!
– Как и мою сестру! – говорит мальчик.
– А тебя как?
– Варфоломей.
– Олфоромей! – повторяет она, и вновь спрашивает требовательно: – Я умираю, да?!
Варфоломей, который шел за матерью с самого низу, и видел и слышал все, молча, утвердительно, кивает головой и говорит:
– Тебя унесут ангелы. И ты увидишь Фаворский свет!
– Фаворский свет! – повторяет девчушка. Глаза у нее снова начинают блестеть, жар подымается волнами.
– И пряники… – шепчет она в забытьи, – и пряники тоже!
– Нет, тебе не нужно будет и пряников, – объясняет Варфоломей, как маленький мудрый старичок, продолжая гладить девочку по нежным волосикам.
– Там все по-другому. Тело останется здесь, а дух уйдет туда! И ты увидишь свет, Фаворский свет! – настойчиво повторяет он, низко склоняясь и заглядывая ей в глаза. – Белый-белый, светлый такой! У кого нету грехов, те все видят Фаворский свет!
Девочка пытается улыбнуться, повторяя за ним едва слышно:
– Фаворский свет!..
Двое детей надолго замирают. Но вот девочка вздрагивает, начинает слепо шарить руками, вздрагивает еще раз и вытягивается, как струна. Отверстые глаза ее холоднеют, становятся цвета бирюзы, и гаснут. Варфоломей, помедлив, пальцами натягивают ей веки на глаза и так держит, чтобы закрылись.
Стефан (он давно уже вошел и стыдливо стоял у двери, боясь даже пошевельнуть рукой) спрашивает хрипло:
– Уснула?
– Умерла, – отвечает Варфоломей, и, став на колени, сложив руки ладонями вместе перед собою, начинает читать молитву, которую, по его мнению, следует читать над мертвым телом:
– Богородице, дево, радуйся! Пресвятая Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего… – Он спотыкается, чувствует, что надо что-то добавить еще, и говорит, чуть подумав: – Прими в лоне своем деву Ульяну, и дай ей увидеть Фаворский свет!
Теперь все. Можно встать с колен, и теперь, наверно, нужен ей маленький гробик.
А внизу, в подклете, хлопают двери, и Кирилл, с трудом разлепивши набрякшие, обмороженные веки, сбивая сосульки снега с ресниц и бороды, говорит жене:
– Еще троих подобрали, и те чуть живы! Прими, мать!
Поздняя ночь. Все так же колотится в двери и воет вьюга.
– Вьюга, это к добру, татары, авось, не сунутце! – толкуют ратники, сменяя издрогших товарищей. Передают из рук в руки ледяное железо, крепко охлопывают себя рукавицами. Не глядючи на полузанесенный снегом труп (давеча один дополз до ограды, да тут и умер), разумея тех, кто внизу, бормочут: – Беда!
А боярчата, измученные донельзя, все еще не спят. Только Петюня уснул, посапывая. Стефан (он сейчас чувствует себя маленьким-маленьким, так ничего и не понявшим в жизни) сидит на постели, обняв Варфоломея, и шепчется с ним:
– А откуда ты слышал про свет Фаворский?
– А от тебя! – тоже шепотом отвечает Варфоломей. – Ты, лонись, много баял о том. Не со мною, с батюшкой… А расскажи и мне тоже! – просит он.
– Вот пойдешь скоро в училище, там узнаешь все до тонкости, – задумчиво отвечает Стефан. – Далеко-далеко! На юге, где Царьград, и дальше еще, там гора Афон. И в горе живут монахи, и молятся. И они видят свет, который исходил от Христа на горе Фавор. Фаворский свет! И у них у самих, у тех, кто самый праведный, от лица свет исходит, сияние.
– Как на иконах?
– Как на иконах. Только яще ярче, словно солнце!
– Степа, а для чего им Фаворский свет?
– Они так совокупляют в себе Дух Божий! Божескую силу собирают в себе, чтобы потом людям ее передать! Понимаешь? Из пламени возникает мир, и вновь расплавляется в огне. Зрел ты пламя? Оно жжет, но вот угас костер, и нет его! Огонь зримо являет нам связь миров: духовного, горнего, и земного, того, который вокруг нас. Огонь также и символ животворящей силы Божества, потому и едины суть Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой, исходящий на нь в виде света… Не простого света, солнечного, а того, божественного, что явил Христос ученикам своим на горе Фаворе!