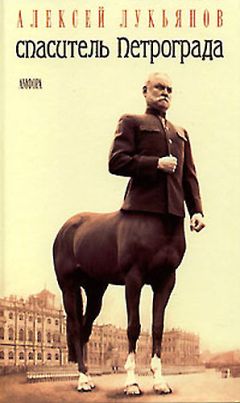Ознакомительная версия.
Многочисленные нарушения и прегрешения чиновников различных уровней вкупе с фактами и слухами об их жизни вызывали недовольство обывателей и небезосновательные обвинения властей в «комиссародержавии», карьеризме, «волокитничестве», бюрократизме, кумовстве. Понимали это и сами функционеры. В дневнике бойца бронепоезда № 6 И.П. Фирсенкова за 1 октября 1920 г. есть запись его разговора с одним старым партийным работником. Последний признался, что вышел бы из партии большевиков, но «на партийную работу положено много сил и не так легко ее бросить, хотя не легче и смотреть на все безобразия, которые творятся примазавшимися к власти»[195].
Но наиболее показательны в этом отношении выступления на закрытом партийном собрании 19 августа 1920 г. Участниками его стали члены ПК, бюро райкомов, бюро фракций профсоюзов, коммунисты отделов Петросовета, т. е. именно те, кто знал жизнь и деятельность ответственных работников не со стороны и не понаслышке. Хотя на собрании стоял вопрос о созыве X общегородской партийной конференции, он свелся к обсуждению личных качеств коммунистов, стоящих у власти. Тон задал Зиновьев, сообщивший, что группа московских товарищей подала в ЦК записку, в которой указала на «необходимость пересмотра основных положений внутри нашей партии». Под этой обтекаемой фразой крылось не что иное, как обеспокоенность ростом в рядах большевиков обюрократившихся шкурников, «комиссаров» и прочих функционеров, которые «действительно только примазались к партии и далеки от коммунизма по своему духу». Выражения «кремлевский коммунист», «смольнинский коммунист», признал докладчик, стали порой ругательными. Остальные выступавшие тоже были настроены достаточно критически: они говорили о роскошной жизни отдельных партийцев, о том, что на «субботниках работают босые, а верхи разъезжают на автомобилях», о стремлении некоторых заботиться главным образом о себе и своей семье, о неравномерном распределении благ и ужасающем бюрократизме. Выход виделся в железной дисциплине, притоке в партию рабочих (коммунист из интеллигенции «проявляет высший бюрократизм по отношению к рабочим и лакействует перед высшим „начальством“», утверждал А.Я. Клявс-Клявин), перерегистрации членов партии, широком обсуждении среди коммунистов каждого случая превышения власти. Итоги своеобразного «самобичевания» (один из выступавших заметил, что наше собрание есть критика самих себя) подвел Зиновьев. Отметив, что равенства сразу достичь нельзя, а коммунистическое равенство придет только после мировой революции, он предложил «сегодняшние прения продолжить в тесном кругу определенных выдержанных товарищей, не вынося его (вопрос. – А. Ч.) на широкие общественные собрания»[196].
Возражений не последовало. Одно дело – критиковать себе подобных, не называя при этом имен, в узком кругу, другое – дать волю рабочим-коммунистам, которые могут выйти из-под контроля и принять самые неожиданные решения. Кроме того, это привело бы к подрыву авторитета руководителей города. Подобные прецеденты уже были. За месяц до этого собрания бюро губкома рассматривало конфликт между окружным военкомом Г.С. Биткером и профсоюзным работником Н.М. Анцеловичем. Они устроили склоку в присутствии членов рабочих делегаций. Анцеловичу было поставлено на вид, что «нельзя на общем собрании компрометировать тов[арища], занимающего ответственный пост»[197].
Неизвестно, проводились ли еще заседания по поводу нравственных и деловых качеств функционеров. Во всяком случае, к весне 1921 г. никаких заметных улучшений не произошло. Февральские «волынки» рабочих Петрограда и восстание в Кронштадте заставили петроградскую верхушку отказаться от некоторых раздражающих глаз обывателя льгот или ограничить немного свои запросы, но успешный для большевиков исход событий все вернул «на круги своя».
В.И. Мусаев
Городская повседневность
Состояние города. Повседневная жизнь горожан
Революция 1917 г. и события последующих лет не могли не затронуть и повседневную жизнь петроградцев, не нарушить сложившийся уклад их быта. Жизнь города, начавшая изменяться еще в годы Первой мировой войны, радикально трансформировалась после 1917 г.: исчезло многое, что было характерно для дореволюционного Петрограда, и в то же время появилось немало новых черт. Изменения в повседневной жизни были вызваны не только трудностями, связанными с Гражданской войной и хозяйственной разрухой: эти явления имели временный характер. Черты нового быта стали появляться в значительной мере под влиянием новой идеологии, насаждаемой в стране пришедшей к власти политической группировкой.
Одним из основных факторов петроградской жизни в первые послереволюционные годы была катастрофическая убыль населения. Это объясняется, во-первых, резким ростом смертности и столь же резким понижением рождаемости и, во-вторых, оттоком части населения из города. В 1914 г. в Петрограде проживало 2 103 000 человек. На протяжении последующих двух лет численность населения города не только не уменьшалась, но, напротив, увеличивалась за счет притока беженцев с оккупированных немцами территорий и рабочей силы на военные предприятия города и в 1916 г. достигла 2 415 700 человек. Убыль населения началась с 1917 г., и в 1920 г. в Петрограде проживало всего 722 229 человек, то есть с 1916 г. число жителей уменьшилось более чем в три раза[198]. Безлюдность, отсутствие прежнего оживления были основными внешними признаками петроградских улиц того времени. Именно это бросалось в глаза иностранцам, приезжавшим в город, и производило на них неизгладимое впечатление. В их описаниях внешнего вида улиц и домов Петрограда присутствует мотив некоей потусторонности, ирреальности окружающего. Вот ощущения английского журналиста А. Рэнсома, побывавшего в городе в 1919 г., от прогулки по набережной реки Мойки: «Улицы были едва освещены, в домах почти не было видно освещенных окон. Я ощущал себя призраком, посетившим давно умерший город. Молчание и пустота на улицах способствовали созданию такого впечатления»[199]. Подобные же ассоциации вызвала встреча с Петроградом у Виктора Сержа (Кибальчича), французского социалиста славянского происхождения, который был выслан из Франции за революционную деятельность и прибыл в город в январе 1919 г.: «Мы вступили в мир смертельной мерзлоты. Финляндский вокзал, блестящий от снега, был пуст. Широкие, прямые артерии, мосты, перекинутые через Неву, покрытая снегом замерзшая река, казалось, принадлежали покинутому городу. Время от времени худой солдат в сером капюшоне, женщина, закутанная в шаль, проходили вдалеке, похожие на призраков в этом молчании забытья»[200]. Американская анархистка Э. Голдман также была выслана в Советскую Россию и приехала в Петроград в начале 1920 г. Она прожила в Петербурге несколько лет накануне Первой мировой войны и теперь имела возможность сравнить нынешнее состояние города с прежним: «…Санкт-Петербург всегда оставался в моей памяти яркой картиной, полной жизни и загадочности. Я нашла Петроград 1920 года совершенно другим. Он был почти в руинах, словно ураган пронесся через город. Дома походили на старые поломанные гробницы на заброшенном кладбище. Улицы были грязные и пустынные, вся жизнь ушла с них. Люди проходили мимо, похожие на живых покойников»[201]. Город производил особенно сильное впечатление зимой в вечернее время: уличное освещение почти не работало, с наступлением вечера город погружался в полный мрак, люди предпочитали не покидать своих домов. Однако и днем малолюдность города также была вполне очевидна. По замечанию А. Рэнсома, «в дневное время город казался менее пустынным, но все же было очевидно, что „разгрузка“ населения Петрограда, которую безуспешно пытались провести во времена режима Керенского, была осуществлена в весьма больших масштабах»[202].
Все иностранцы, побывавшие после Петрограда в Москве, сравнивая между собой оба города, сходились в мнении о том, что в Москве убыль населения чувствовалась не так сильно и что в целом положение в Москве было более благополучным. По наблюдениям испанского социалиста Ф. де лос Риоса, Москва не производила такого тягостного впечатления, как Петроград, ее жители не выглядели столь изможденными и изголодавшимися[203].
Об этом же писала англичанка Э. Сноуден, супруга одного из лидеров лейбористской партии Великобритании, приехавшая в Россию в составе делегации этой партии. Приехав из Петрограда в Москву, она отмечала: «Нетрудно было почувствовать разницу между этими людьми и теми, которых мы недавно покинули. Здесь было меньше напряжения и мучения, больше человеческого веселья и доброты; меньше фанатичного пыла революции, больше ее созидательной надежды. Люди выглядели истощенными, как и в Петрограде, однако в их походке было больше живости, меньше страдания на их лицах»[204]. А вот впечатления от Москвы Э. Голдман: «На улицах было много мужчин, женщин, детей. Было оживление, движение, совершенно непохожие на неподвижность и тишину, которые подавляли меня в Петрограде… Здесь, как казалось, не было такого недостатка продовольствия, как в Петрограде, люди были одеты лучше и теплее»[205].
Ознакомительная версия.