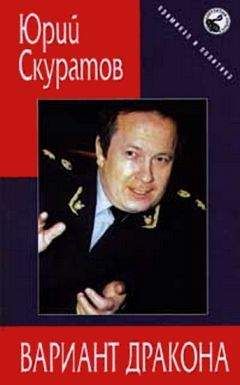За окном занималось солнце. Воздух сделался розовым, бодрящим, на ветках недалеких елей шебаршились птицы, стряхивали с лап чистый свежий снег.
Дверь в соседнюю комнату была приотворена. Мелькнула невольная мысль: «А не сидит ли там Татьяна Дьяченко? Очень может быть, что и сидит. Оттопырила по-крестьянски ухо и приготовилась слушать, о чем пойдет речь». В последнее время ежечасный доступ к «телу» — то бишь к отцу — имела лишь она одна. Значит, она «одна» (плюс незаменимые ее советчики Березовский, Волошин, Чубайс, Абрамович, Бородин, Мамут) и решает наши судьбы. В том числе и судьбы Примакова с Путиным, находящихся здесь.
Ельцин откинулся на спинку кресла, отдышался и произнес:
— Вы знаете, Юрий Ильич, я своей жене никогда не изменял…
Такое начало меня обескуражило, но не больше. Я понял: говорить что-либо Борису Николаевичу, объяснять, доказывать, что кассета вообще не может быть предметом официального обсуждения, бесполезно. Откуда вы взяли, господа, эту кассету? Вы же становитесь соучастниками преступления. Что вы делаете? Со-у-част-ни-ки.
И вдруг до меня, как сквозь вату, доходит голос президента:
— Впрочем, если вы напишете заявление об уходе, я распоряжусь, чтобы по телевизионным каналам прекратили трансляцию пленки.
Это же элементарный шантаж, за это даже детей наказывают, не только взрослых. Я смотрел на президента, но краем глаза, каким-то боковым зрением, заметил, что Примаков и Путин с интересом наблюдают за мной, Путин даже шею вывернул. Только у Примакова этот интерес носит какой-то сочувственный характер — Евгений Максимович понимает, в какую ситуацию я попал, а у Путина интерес совсем другой…
Итак, первая фраза президента прозвучала, вызвала некий холод в душе, но я молчу, жду, что дальше.
— В такой ситуации я работать с вами не намерен, — произнес тем временем президент, — и не буду…
Я молчу, президент тоже молчит.
— Борис Николаевич, вы знаете, кто собирается меня увольнять? наконец сказал я. — Коррупционеры. Мы сейчас, например, расследуем дело по «Мабетексу». Там проходят знаете кто?.. — Я назвал Ельцину несколько фамилий. — Это они все затеяли. Они!
— Нет, я с вами работать не буду, — упрямо повторил президент.
В разговор, понимая, что дальше молчать нельзя — я могу перехватить инициативу у Ельцина, — включился Путин.
— Мы провели экспертизу, Борис Николаевич, — сказал он президенту, кассета подлинная.
Не может этого быть! Я даже растерялся — ведь экспертизы обычно проводятся в рамках уголовного дела… Но дела-то никакого нет.
— Тут есть еще и финансовые злоупотребления, — добавил Ельцин.
Мне вдруг стало обидно — я не то чтобы присвоить чей-нибудь рубль себе, не обязательно государственный, — я даже пачку скрепок не мог унести с работы, если у меня дома их не было, я просил жену сходить в канцелярский магазин. И вдруг — такое несправедливое обвинение, фраза, для меня страшная: «Финансовые злоупотребления». Я почувствовал, что у меня даже голос дрогнул от неверия в то, что я услышал:
— Борис Николаевич, у меня никогда не было никаких финансовых злоупотреблений. Ни-ког-да. Ни-ка-ких. Можете это проверить!
В разговор включился Примаков. Но он говорил мягко, без нажима Евгений Максимович, как никто, понимал эту ситуацию, но понимал и другое: его пригласили для участия в этом разговоре специально, чтобы связать руки — ему связать, не мне, чтобы он потом не мог влиять на историю со мной с какой-то боковой точки действия.
Что меня больше всего удивило в этом разговоре? Не кассета. Другое. Первое — игнорирование правовой стороны дела: никакие законы для высшей власти не существуют. Второе: неуважительное отношение к Совету Федерации. Ведь эта разборка происходила на следующий день после его заседания, она возникла как следствие, как сюжетное противодействие, если хотите, тому, что уже случилось. Третье: нежелание «семьи» дать мне возможность переговорить один на один с президентом. Для этого и были подключены Примаков и Путин. Хотя я готовился к беседе наедине.
Тонкие разработчики, конечно же, — Дьяченко, Березовский, Юмашев, Чубайс и K°.
Очень точно просчитывают свои ходы. Как шахматисты. Особенно Березовский с его системным мышлением. Он, конечно, стоит на голову выше всей этой команды.
— Надо написать новое заявление об отставке, — сказал Ельцин.
— И чем его мотивировать? Совет Федерации же только-только принял решение.
— Пройдет месяц… На следующем своем заседании Совет Федерации рассмотрит новое заявление…
— Но это же будет неуважение к Совету Федерации.
Ельцин в ответ только хмыкнул. Понятно, где он видит этот Совет Федерации. В голове у меня словно бы молоточки какие забарабанили, от их звонких ударов даже заломило виски. «Что делать… что делать… что делать? Надо как-то выиграть время. Но как?» Давление идет вон какое мощное. Самое главное в этом давлении не президент и не Путин, самое главное — Примаков. Я всегда относился к этому человеку с уважением, всегда прислушивался к нему. Что он скажет? Но раз он находится здесь, то понятно, что он скажет. И Примаков сказал:
— Юрий Ильич, надо уйти. Ради интересов прокуратуры. Да и ради своих собственных интересов.
«Да, нужно обязательно выиграть время. Это необходимо как воздух. Уже запланирован визит Карлы дель Понте в Россию, она скоро должна приехать. Ее приезд откроет многие карты, которые сегодня закрыты. Во всяком случае, я на это надеюсь. Надо сманеврировать и обязательно выиграть время… Нужно довести дело по «Мабетексу» до такой стадии, когда его уже нельзя «развалить», и подстраховать визит мадам дель Понте».
Вот такая задача стояла передо мною. И еще я понимал, что без очередного заседания Совета Федерации не обойтись. Все решить может только это заседание.
— Борис Николаевич, следующее заседание Совета Федерации запланировано на 6 апреля. Если я напишу заявление сейчас, то произойдет утечка информации, прокуратура за это время просто развалится… — Тут я поймал тяжелый, непонимающий взгляд президента, он словно бы не верил в то, что слышал. — Я напишу заявление сейчас, но дату поставлю апрельскую, 5 апреля — самый канун заседания Совета Федерации. За это время я смогу разобраться со швейцарскими материалами… Это очень важно.
Надо отдать должное президенту, он меня поддержал:
— Ладно, расследуйте то, что начато, а заявление датируйте 5 апреля.
Ход был правильный. Если бы я не написал заявления, то против меня были бы приняты резкие меры. Вплоть до физического устранения — от киллерского выстрела до наезда на мою машину какого-нибудь огромного, груженного кирпичами грузовика: эти ведь методы освоены в современном мире, в том числе и российском, в совершенстве. Ну, а уж насчет того, чтобы отстранить меня от должности указом, то тут уж, как говорится, Борису Николаевичу сам Бог велел…
Так с 18 марта по 5 апреля я получил возможность действовать, довести до конца начатые дела, продвинуть вперед историю с «Мабетексом» — пусть люди знают, что делает наша верхушка и как обходится с теми, кто указывает ей на нарушение закона.
Пока мы вели разговор, Борис Николаевич взялся за сердце, вяло приподнял руку, поморщился, одна половина его лица потяжелела, и он, хрипло дыша, вышел из комнаты. За окном продолжало светить, ликовать радостное весеннее солнце. Я заметил, как лица Примакова и Путина напряглись.
Через десять минут Ельцин вернулся, снова сел в кресло.
Когда я написал заявление, Примаков и Путин с облегчением вздохнули.
Выйдя из президентского корпуса на улицу, я хотел было сразу сесть в машину и уехать — слишком муторно, слишком противно мне было, — но Примаков задержал меня:
— Юрий Ильич, вы знаете, я скоро тоже уйду. Работать уже не могу. Как только тронут моих замов — сразу уйду…
В те дни в печати довольно широко обсуждался вопрос об отставке вице-премьеров Кулика и Маслюкова. Кулика, как мне казалось, — за дело. Он недалеко ушел от кремлевской верхушки. Создалось впечатление, что Евгений Максимович пытался этими словами сгладить ситуацию, оправдаться, и я понимал, насколько ему неприятно — ведь он попал между двух огней, — но должность его не позволяла сказать то, что он должен был сказать.
Выходит, Примаков тоже чувствует, что тучи над его головой сгущаются, что «семья» плетет вокруг него паутину, которая, того гляди, задушит премьера…
Я уехал на работу, а заявление, написанное на имя председателя Совета Федерации Строева, осталось лежать на столе у президента, как некий горячий лоскуток бумаги, вызывающий ощущение горечи, одиночества, боли — словно бы некий знак беды, которая накатилась на меня, будто лавина с крутого склона…
Со стола президента заявление перекочевало в сейф.
Президент сказал: