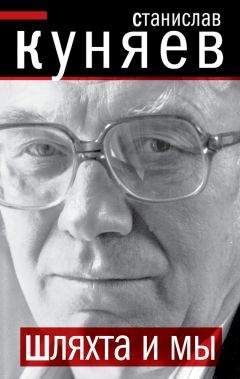Ознакомительная версия.
«Так как мы жили по своей воле, внимания ни на кого не обращали, то между нас открылся страшный разврат: хвастанье нарядами, банкетами, забавами, танцами (и это среди крайнего недостатка, нужды и заключения), наговорами одного на другого, взаимным язвлением и сплетнями, писанием пасквилей друг на друга, без всякой пощады кого-либо. К тому надо присоединить картежничество, повальное пьянство, без мысли о страхе Божием, без внимания к великим праздникам, постам и дням, установленным для покаяния. И если бы еще упивались чем, а то скверной горелкой, смешанной с дрянным пивом. И для этой цели продавая одежду с себя или со слуги. Вследствие всего этого частые ссоры, раздоры, споры, пересылки о поединках и вызовы на поединки, драки, поранения, гнусный блуд, прелюбодеяния, paracidia – мать порезала на куски свое дитя и побросала на крышу, желая скрыть свой разврат и блуд, – и иные гнусные грехи, о которых по омерзительности их и по брезгливости перед Богом и вспоминать-то не годится, и стыд не допускает; наконец, свершилось и ужасное душегубство: убийство в святой пасхальный день палкой в голову безоружного, сзади, шляхтича в тюрьме и по вздорному поводу. Присоединим кражи друг у друга и взаимные ограбления сундуков».
Впечатляющие образы культурных, почти западных людей… Но богобоязненный христианин шляхтич не был бы шляхтичем, если бы после этих честных записей не добавил, что это все – Божье наказание за то, что «заключение и мучение, что вынесли мы от столь подлого народа, нас не угомонило…» Этот же русский народ в записках Немоевского именуется «варварским», «злым», «животным» и, конечно, «быдлом»…
Знатный шляхтич в своих записках горевал, что ему с высокородными панами приходится терпеть «от народа, вероятно самого низкого на свете, самого грубого и не способного к бою, не обученного в рыцарском деле, у которого нет ни замков, ни городов, ни доблести, ни храбрости»…
* * *
Я пишу эти страницы в первые дни ноября 2001 года. Сегодня четвертое – день Казанской Божией матери. Православный праздник, учрежденный в честь иконы, под покровительством которой Минин и Пожарский в 1612 году повели свое ополчение на штурм Кремля и освободили его от польских оккупантов. Поляки часто иронизируют над тем, что мы еще помним давний день освобождения и чтим икону Казанской Божией матери, которая, кстати, во время войны какими-то таинственными путями попала в Ватикан, где и пребывает до сей поры в заточении у католиков. Взяли, так сказать, реванш… Ездят наши президенты и крупнейшие политики к папе – бывшему польскому кардиналу Войтыле – уже десять с лишним лет, и никто из них не решится попросить или потребовать, чтобы вернулась наша национальная святыня на родину. Боятся, что ли, национальные чувства Войтылы потревожить?
Однако я отвлекся. Полякам чрезвычайно свойственно помнить и праздновать дни всех своих романтических и драматических восстаний против России. А чего же нам стесняться и не праздновать 4 ноября – наш день освобождения? Может быть, даже стоит его сделать национальным праздником, тем более что в 2002 году будет юбилей нашего освобождения от польских оккупантов.
Рядом с калужским домом, где я пишу эту главу, в ста метрах буквально, стоит кирпичный терем с узорчатой кладкой, витиеватыми каменными наличниками, толстыми стенами. В нем после бегства из Москвы жила временно исполнявшая обязанности московской царицы Марина Мнишек, дочь польского сандомирского воеводы. От этого терема почти что видна окраина калужского бора, на которой неверные соратники Лжедмитрия II в 1613 году зарубили саблями очередного мужа сандомирской авантюристки, возмечтавшей стать владычицей варварской Московии. Так что граница Руси и Польши вполне могла бы при другом повороте истории пройти по окраине калужского бора, по речушке Ячейке, по извивам моей родной Оки. Пусть об этом не забывают наши полонофилы…
Феноменальная особенность польской истории, видимо, заключена в том, что никакие социальные потрясения, никакие перевороты и национальные катастрофы за последние несколько веков не изменили сути того, что законсервировано в понятии «шляхетство», «шляхта»… Чеслав Милош пытается убедить мир, что «шляхетство» есть самосознание не только польской знати, но всего народа. Возможно. Но тем хуже для народа, если, как пишет нобелевский лауреат, «в Польше в эту эпоху (XVI–XVII века. – Ст. К.) складывалась дворянская культура, и польский крестьянин или рабочий по сей день колют ею глаза русскому, сплошь и рядом неся на себе ее следы, отчего и получают от него кличку «пана»…»
Русский крестьянин или рабочий никогда не додумывался до того, чтобы «колоть» культурой Пушкина и Чайковского глаза узбека или казаха… Впрочем, позволю себе усомниться в правоте Милоша. Думаю, что польское простонародье не было заражено дурной шляхетской болезнью и относилось к России иначе, нежели знатное сословие.
В доказательство приведу отрывок из воспоминаний того же Самойлова, с которым я на этот раз согласен. Поэт вспоминает о том, как в 1944 году его разведрота вошла в Польшу: «Деревня. Три часа назад здесь были немцы. Потом прошли наши танки, Поляки приветствуют нас со слезами радости. Ночь. Вошли в село, где еще не видели русских.
– Пять лет вас высматривали, – говорит старая бабка. Жители тащат нас в дома, угощают молоком и самогоном».
Честное свидетельство того, что польское простонародье относилось к русским безо всякого гонора, мы получили из уст восторженного полонофила. А это – дорогого стоит, поскольку подтачивает концепцию Чеслава Милоша о полной «шляхетизации» польского народа.
Так что деваться некуда: придется перейти на классовые позиции, чтобы понять – шляхетский гонор бессмертен. И от него страдали не только подвластные шляхте холопы, но куда более русские, белорусы и особенно украинцы, презрение поляков к которым правильнее объяснить не застарелой жаждой мести за исторические обиды (украинцы натерпелись от поляков за всю историю куда больше, чем нанесли обид сами), а особым польским расизмом по отношению к хуторянскому, почвенному, негосударственному и потому плохо приспособленному к сопротивлению племени. Незадолго до гибели Пушкина вышел в свет первый номер созданного им журнала «Современник», где были опубликованы его размышления о «Собрании сочинений Георгия Конисского, архиепископа Белорусского». Несомненно, что интерес Пушкина после польского восстания 1830 года к такого рода сочинениям обуславливался и тем, что в них Пушкин нашел немало страниц, изображающих нравы и национальный характер шляхтичей XVII века, их неизменное на протяжении веков презрение к триединому восточнославянскому племени русских, украинцев и белорусов. Пушкин в своем отзыве щедро цитировал отрывки из исторических записей, которые, видимо, казались ему крайне важными, повествующие о расправе поляков с непокорными украинскими повстанцами:
«Казнь оная была еще первая в мире и в своем роде, и неслыханная в человечестве по лютости своей и коварсту, и потомство едва ли поверит сему событию, ибо никакому дикому и самому свирепому японцу не придет в голову ее изобретение; а произведение в действо устрашило бы самых зверей и чудовищ.
Зрелище оное открывала процессия римская со множеством ксендзов их, которые уговаривали ведомых на жертву малороссиян, чтобы они приняли закон их на избавление свое в чистцу, но сии, ничего им не отвечая, молились Богу по своей вере. Место казни наполнено было народом, войском и палачами с их орудиями. Гетман Остраница, обозный генерал Сурмила и полковники Недригайло, Боюн и Риндич были колесованы, и им переломали поминутно руки и ноги, тянули с них по колесу жилы, пока они скончались; Чуприна, Околович, Сокальский, Мирович и Ворожбит прибиты гвоздями стоячие к доскам, облитым смолою, и сожжены медленно огнем; старшины: Ментяй, Дунаевский, Скубрей, Глянский, Завезун, Косырь, Гуртовый, Тумарь и Тугай четвертованы по частям. Жены и дети страдальцев оных, увидя первоначальную казнь, наполняли воздух воплями и рыданием; скоро замолкли. Женам сим, по невероятному тогдашнему зверству, обрезавши груди, перерубили их до одной, а сосцами их били мужей, в живых еще бывших, по лицам их, оставшихся же по матерям детей, бродивших и ползавших около их трупов, пережгли всех в виду своих отцов на железных решетках, под кои подкидывали уголья и раздували шапками и метлами.
Они между прочим несколько раз повторяли произведенные в Варшаве лютости над несчастными малороссиянами, несколько раз варили в котлах и сжигали на угольях детей их в виду родителей, предавая самих отцов лютейшим казням».
Конечно, в те времена нравы были везде жестокими. Степана Разина четвертовали. Петр Первый пролил на Красной площади море стрелецкой крови. Император Николай отправил пять декабристов на виселицу. Но в России так расправлялись со своими подданными, со своими бунтовщиками и предателями. С пленными других государств и народов даже в ту варварскую эпоху русская власть обращалась иначе. Немоевского с шляхтой Василий Шуйский «интернировал» на берега Белого озера. Тот же Петр Первый поднял кубок за «учителей своих» – пленных шведов и с почестями отправил их на родину, пленные французы после 1812 года, как правило, устраивались воспитателями и учителями дворянских детей (вспомним «Дубровского»)…
Ознакомительная версия.