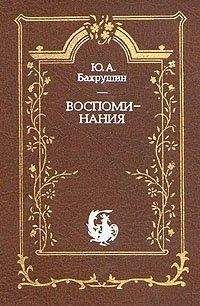Любопытно, что, насколько я помню, хотя за этой трапезой никому ни в чем не отказывалось, в особенности в вине, однако никогда никаких бесчинств не происходило. Своего апогея праздник достигал вечером. Тогда весь сад и часть парка иллюминировались кенкетами 2* , старый дом, как в былые годы, заливался светом свечей, а на большом лугу перед усадьбой давался праздничный фейерверк. Таких фейерверков мне в жизни впоследствии не приходилось видеть. Со всех сторон неба сыпались грозди ракет, вертелись искрометные мельницы, били огненные фонтаны, вокруг дуба-гиганта плавали огненные лебеди, на лугу пламенеющие корабли двигались, сражались, палили из пушек и шли ко дну. За несколько часов до начала фейерверка Иван Александрович уже выставлял специальные заставы на дороге, чтобы звать всех проезжающих к себе на праздник, затягивавшийся далеко за полночь.
На другое утро все постепенно приходило в обычную норму. После легкого угощения и щедрых подарков уходила казачья сотня, разъезжались гости. Терлецкие снова перебирались на свою дачу, и старый дом запирался на год до следующего Иванова дня.
Изредка он отпирался для любопытствующих москвичей, среди которых первое место занимал мой отец и его гости. Бывал в нем неоднократно и я. Он был какой-то задумчивый, грустный и поседевший внутри, такой же, как и снаружи. Полы с мозаичным паркетом, большие картины и портреты в тяжелых золотых рамах, хрупкая золотая мебель с выцветшей шелковой обивкой, штофные обои и люстры с хрустальными подвесками, звеневшими в высоте при быстрой ходьбе. В одной из зал стояли часы. Массивный дорогой ларец, который поддерживали на плечах четыре женщины — римлянка, китаянка, негритянка и индианка. Сверху большой циферблат с хрустальными стрелками и цифрами. Когда часы били, дверцы ларца распахивались, обнаруживая макетные виды горных местностей — там под звуки музыки текли хрустальные потоки, низвергались стеклянные водопады и двигались маленькие люди.
Под домом были обширные подвалы. Раз как-то я в них залез и извлек оттуда велосипед — огромное, чуть ли не в три аршина диаметром колесо, а сзади два маленьких; оказалось, что на этой машине катался отец Ивана Александровича, вывезя ее из Лондона.
С каждым годом празднества в Гирееве делались все скромнее и скромнее. Денежные дела Терлецкого все более запутывались. Из старого дома стали исчезать вещи. Один портрет М. В. Бегичевой-Шиловской работы Плюшара был уступлен моему отцу и до сих пор хранится в Театральном музее. Но оскудение не мешало Ивану Александровичу оставаться столь же обаятельным, внимательным и широким. Как-то раз, смотря на луг перед домом, мой отец сказал ему:
— Хорошо тут у вас — вот бы где я хотел жить.
— А где именно? — спросил Терлецкий.
— Да хотя бы вот здесь, — сказал отец, указывая на опушку леса.
На следующую весну, как по щучьему велению, на указанной отцом опушке выросла дача, откуда-то перенесенная, на которой мы и поселились и жили несколько лет.
Отец мой трогательно любил русскую природу — она пробуждала в нем стремление к покою и созерцанию. Мать также не оставалась равнодушной к деревне, но ее любовь была деятельной и конкретной. Она не могла, подобно отцу, просиживать часами с удочкой, когда рыба не клевала, или читать книгу или газету, лежа в саду на кушетке, ей необходимо было сажать цветы, возделывать огород, заводить кур и уток и тому подобное. Но оба они равно любили следить за полной очарованности и таинственности сменой одного времени года другим. Все это привело к тому, что очень скоро у нас в доме выработались твердые сроки переездов на дачу и в город.
На дачу мы отправлялись с тем расчетом, чтобы устроиться там к именинам отца, то есть к 17 марта, а переезжали в город лишь после того, как мы отпразд-новывали именины матери 17 сентября. Большинство городских знакомых моих родителей не разделяли их вкусов и не понимали, как можно лишать себя целого ряда столичных увеселений задолго до окончания зимнего сезона, и приписывали это чудачеству моего отца.
Отец же, переехав на дачу, начинал вести диаметрально противоположный образ жизни тому, что он вел в городе. В деревне он превращался в домоседа и семьянина, которого чрезвычайно трудно было вытащить из его домашней норы.
Жизнь в Гирееве выявляется в моей памяти все с большей и большей ясностью каждый год. Переезд на дачу для меня всегда был праздником — это обозначало свободу, самостоятельность и постоянное общение с родителями. Собираться к переезду я начинал обычно уже с Нового года. Доставал откуда-то два своих заветных деревянных ящика (как сейчас вижу их перед собой) и начинал паковать в них все свои наиболее ценные «сокровища». Затем начиналось томительное ожидание дня, когда на дачу поедет первый воз. Наконец наступал и этот день. С фабрики приезжали подводы, которые грузились какими-то дачными вещами и моими ящиками, все это в сопровождении сторожа, который должен был протапливать дачу, уезжало из города. Тогда я окончательно успокаивался.
В Гиреево ездили мы обычно не поездом, а на лошади, благо расстояние было не дальнее — верст двенадцать от Рогожской заставы. Жизнь на даче текла у нас обычно тихо и спокойно. В субботу приезжали гости — все одни и те же завсегдатаи, которые оставались у нас до понедельника утра. Вскоре нашим житьем прельстился и дед Носов, отец моей матери, который снял дачу недалеко от нас в одном из старинных флигелей главного дома, где и жил вместе со своей незамужней дочерью Августой Васильевной, младшей сестрой матери. После него в непосредственном соседстве с нами поселились и моя мать-крестная — другая сестра матери со своей семьей. Таким образом образовался маленький поселок близких родных. В Гирееве стало немного люднее и веселее.
Подчас к нам на дачу приезжали какие-то необыкновенные гости, но это бывало изредка. Помню, как незадолго до своей смерти к нам приезжал двоюродный брат отца, Алексей Петрович Бахрушин. Прибыл он с женой в коляске, запряженной по-русски с пристяжной.
Алексей Петрович был интереснейшей личностью и оказал громадное влияние на моего отца в области его собирательства. Он был русским библиофилом, его знание книг было поразительно. Попутно он собирал и другие памятники отечественной старины. Русофил до мозга костей, воспитанный во взглядах и традициях Александра III, он смело мог бы быть записан в число черносотенцев, если бы не его гуманный и просвещенный взгляд на вещи и события. Но там, где дело касалось величия и славы России, он был неумолим и считал неуместным проявления какой-либо мягкотелости.
Помню, как кто-то изобразил в альбоме отца карикатуру на сообщение о предполагаемом открытии памятника Муравьеву в Вильно. Карикатура носила название «Проект памятника Муравьева в Вильно» и изображала виселицу, к подножию которой был прикован на цепи злющий пес с лицом Муравьева и в военной фуражке. Надпись на памятнике гласила: «Муравьеву-вешателю, благодарная — Литва». Увидев этот рисунок, Алексей Петрович возмутился до глубины души и, искренно веря, что Муравьев, творя свои изуверства над литовцами, по-своему честно служит интересам России, написал в альбоме, что страница с карикатурой «позорит как автора, так и хозяина альбома».
В своем собирательстве Алексей Петрович был фанатиком. Его не столько интересовала сама вещь, как процесс ее нахождения и охоты за ней. Он предпринимал какие-то сложные экскурсии, заводил какие-то необыкновенные знакомства ради получения какого-либо сногсшибательного раритета для своей коллекции.
В погоне за старопечатными и рукописными книгами он свел дружбу с монахами всех московских монастырей. Особенно сблизился он с игуменом Даниловского монастыря. Раз как-то за чаем, после обедни отец игумен проговорился, что на монастырском чердаке валяется какой-то старинный портрет какого-то генерала. Алексей Петрович весь загорелся. Услужливый служака отправился в указанное ему место и приволок оттуда внушительного размера портрет какого-то бравого генерала, «времен Очакова и покоренья Крыма»*, сильно замазанного и закоптелого. За какой-то немедленный вклад отцу казначею портрет перешел из рук в руки. Весь в коллекционерском раже, Алексей Петрович привез свое приобретение домой на Воронцово ноле и срочно вызвал реставратора, а заодно и моего отца, которому покровительствовал. Началось священнодейство промывки портрета. После первых же манипуляций, произведенных мастером по картинной части, краски начали слабеть и изображение генерала вянуть. Вместо него все яснее и яснее стал выступать портрет Н. В. Гоголя, сидящего в своем кабинете в кресле и курящего сигару. По мере появления Гоголя возбуждение
Алексея Петровича все падало и падало, сменившись наконец полной депрессией. Когда работа была закончена, он, бледный, подошел к портрету, посмотрел на него и, безнадежно вздохнув, воскликнул: