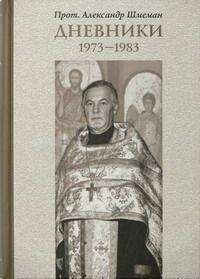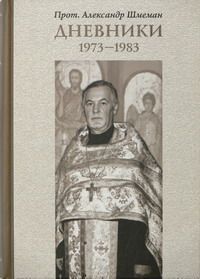Среда, 23 января 1974
Состояние уныния. Не личного – "лично" я могу смело и безоговорочно считать себя очень счастливым человеком: семья, дети и т.п. А по отношению к Церкви, ее состоянию, моей деятельности. Я становлюсь, мне кажется, "аллергичен" к той церковности и той религиозности, которые наполняют Церковь и церковную жизнь и которые мне все больше и больше представляются глубочайшими извращениями христианства и Православия. Между тем только об этом, только в этом вся моя "деятельность", засасывающая бесконечными звонками, письмами, разговорами, собраниями. Все это вне подлинной реальности: Бога, человека, мира, жизни. Душа буквально плачет о другом. Уныние же оттого, что никакого выхода я не вижу. Уйти? Но куда? Я не могу уйти от Церкви, ибо это моя жизнь. Но, оставаясь в том положении, в котором нахожусь, я не могу служить ей так, как я понимаю это служение. Я верю, что Православие – истина и спасение, и содрогаюсь от того, что предлагают под видом Православия, от того, что любят, чем живут, в чем видят "православие" сами православные, даже лучшие, бескорыстные среди них. "Спаси себя, и спасутся кругом тебя тысячи"1 . Но ведь спастись же каждый должен по-своему, спасение каждого в исполнении того, к чему он призван. А если сами условия жизни как раз этого спасения и не позволяют? Если вся деятельность в постоянном отрицании того уровня, на котором одном это спасение возможно?
Все это, как ни странно, усиливается от восхищения Солженицыным! Его величие только подчеркивает нашу мизерность…
Начало занятий. Первая лекция: опять двадцать лиц, слушающих… И мучительное чувство, что главного, что "единого на потребу" не скажешь. Не потому, что кто-то запрещает, а потому, что слушающие не этого хотят и ждут и потому и не услышат. И вот говоришь что-то среднее, что-то хотя, может быть, и верное, но не то.
Четверг, 24 января 1974
Все утро, после лекций, писал письма. Физическое удовлетворение от того, что мучившая меня гора неотвеченных писем на столе стала таять и уменьшаться. Два-три письма, заслуживающих ответа, откладываю, потому что от них не отделаешься торопливыми ответами.
1 Слова преп. Серафима Саровского.
Кончаю книгу M. Eliade (Fragments d'un Journal). Очень сильное впечатление. Много бесконечно верного, а вместе с тем где-то, в чем-то роковая ошибка. Так понимать все о религии, о символах, о сакральном – и не иметь живой, конкретной религии. Судьба современного "интелллектуала". С одной стороны, почти завидуешь его свободе от "церкви", от институции и от всего налипшего на нее. А с другой – сразу же чувствуешь ее правду , ее незаменимость. "Куда нам от тебя идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной".1 И блажен, кто не соблазнится о Тебе.
В нашем мире всякая религия без Христа (даже христианство, даже православие) есть явление отрицательное и даже страшное, и даже соприкосновение с нею опасно. Ее можно изучать для лучшего уразумения христианства или, лучше сказать, Христа. Но сама по себе она не может быть "спасением", что бы под этим словом ни разуметь. Этого не видит, не чувствует Элиаде. Как не видит и того, что Христос есть одновременно и исполнение той "сакральности", в которой он справедливо видит явление для человека не "историческое", а онтологическое, основную для него "структуру", – и ее преодоление, без которого религия неизменно "разлагается" в нечто демоническое.
Ранние христиане: Тело Его на престоле, потому что Он среди них. Теперешние христиане: Христос тут, потому что Его Тело на престоле. Как будто бы то же самое, а на деле та основная разница, что отличает раннее христианство от нашего, разница, о которой почему-то не знают, которую почему-то не понимают богословы. Там все от знания Христа, от любви к Нему. Здесь – от желания "освятиться". Там к причастию приводит следование Христу и из него вытекает следование Христу. Здесь – Христос почти что "ни при чем". Это почти две разные религии.
Недавний разговор с И.М.: о падении современного православия, об его глубочайшем кризисе. Он: но как же тогда знать, где сохранилась Истина? Все та же забота – о внешней гарантии. "Православие сохранило Истину". Но на самом деле надо говорить иначе: ничего внешнее само по себе не "сохраняет" Истину. Истина живет и побеждает только сама собою.
Три часа. Дети идут из школы. И вдруг остро вспоминаю радость этого выхода из Lycee Carnot, этот блаженнейший момент: "quatre heures"2 . Свобода. Солнце на Boulevard Malesherbes, почти болезненное чувство жизни, молодости, счастья.
Понедельник, 28 января 1974
Дни безостановочной суеты, телефонных звонков, бесконечных – иссушающих и расстраивающих душу – разговоров. И потому уныние, тьма. Сегодня, возвращаясь со станции, думал: почему мне не хочется домой, когда я так люблю быть дома? Понял: от телефонной незащищенности, от подсознательного ожидания каждую минуту звонка, и притом всегда неприятного. Чувство загнанности, затравленности. Прихожу. Анна (пасущая маленького Сашу):
1 Ин.6:68.
2 четыре часа (фр.).
звонил такой-то, такой-то, такой-то. Будут снова звонить. Просят позвонить. И вот уже все пронизано беспокойством. Как быть? Что делать? Вопрос, который я задаю себе тысячи раз, не находя никакого ответа. Чувствую, однако, что долго так продолжаться не может.
Сегодня, ранним утром, пятнадцать блоков1 по Park Avenue. Как я люблю эту утреннюю городскую суету, как всегда любил ее.
Уныние, думается, от невозможности быть собою, говорить правду, как видишь. А значит – от малодушия и от маловерия. Минуты молитвы – и все становится просто, как будто душа наполнилась светом. А потом сразу все падает.
Вторник, 29 января 1974
Вчера, ища что-то в подвальных завалах, случайно наткнулся на почти совсем распавшуюся черную записную книжку, озаглавленную: "Заметки Александра Шмемана, 1936-1937", то есть когда мне было пятнадцать-шестнадцать лет. Это как раз время того "кризиса", о котором я вспоминал в этом году: со второй операции в Villejuif в июле 1936 до марта 1937 года. Поэтому решил сделать выписки. Больше всего меня удивляет то, как все мои теперешние "интуиции", все то, что на глубине определяет мои сознание и мысль, уже так очевидны в этих заметках почти сорокалетней давности. Итак, прав Bernanos: "J'ai toujours ete l'enfant de 12 ans que je fus…"2 . Итак, вот главное.
На обложке: "Вся премудростию сотворил еси".
На обороте обложки: "Церковь Бога Живаго, стоп и утверждение Истины".
На заглавном листе, после "Заметки" – гроб (!) и надпись: "Житейское море, воздвигаемое зря напастей (sic!) бурею…"
Еще дальше: "Твое бо есть еже миловати и спасати нас…"
Дальше начинаются сами заметки:
ДНЕВНИК 1936-1937
Суббота, 18 июля 1936
Начинаю третью книжку. Вторая окончилась в каком-то стихотворном хаосе. Попробую в этой книжке быть спокойнее и короче. Короче – это главное. <…> Мой кризис, кризис "трех искушений", изжит еще не совсем – но теперь я уверен в нескольких вещах: что бывают чудеса, что я рано или поздно успокоюсь – и на основе Православия, и, наконец, в том, что порядок внешний очень содействует порядку внутреннему. Вообще я чувствую себя внутренне много лучше.
1 block (англ.) – квартал.
2 Бернанос: "Я всегда оставался тем двенадцатилетним мальчиком, которым был когда-то" (фр.).
13-го скончался о. Иаков Смирнов…
Чувствую непреодолимое влечение к писательству.
Страшно нравится Бунин. В больнице попались книжки "Совр[еменных] Зап[писок], и там начало "Жизни Арсеньева". Но, к сожалению, нигде нельзя книг достать.
Там также прочел отрывок из "Истории любовной" Шмелева… У меня три эмигрантских классика – Бунин, Шмелев, Зайцев. Кроме того, много любимых.
Досадно и грустно, что книг нету, а читать все новое очень хочется. Сейчас очень хочется достать альманах "Круг" – да денег нету. (О! Блаженная бедность нашего детства! Как я теперь за нее благодарен… – янв. 1974 . )
Вот как будто бы и все. Жизнь моя не очень разнообразная, но я скучать не умею. Да и скука иногда полезна. В этом отношении я уверен, что госпиталь сыграл большую роль в моей внутренней жизни. Я начал думать об очень многом и совершенно новом.
Вторник, 21 июля (Казанская) 1936
Вчера вечером был у всенощной, сегодня у Литургии… Все думаю о религии и, кажется, прихожу к Истине. Молю Бога да поможет мне обрести покой душевный. Непрерывно тянет в церковь и только в церковь. Боже, помоги мне. Верую, помоги моему неверию.
Среда, 22 июля 1936
Произвел генеральную уборку комнаты и стола. Мое правило – внешний порядок для внутреннего. Тихо. Думаю. Молюсь. Грешу.
Четверг, 23 июля 1936
Был в церкви… Все сомневаюсь и томлюсь. Погода плохая. Все тихо снаружи и, надеюсь, будет внутри.
Пятница, 24 июля 1936