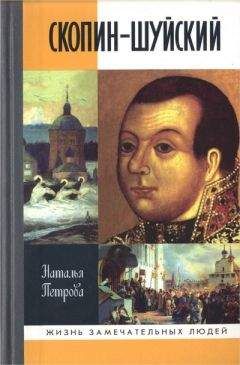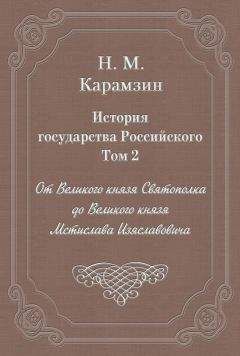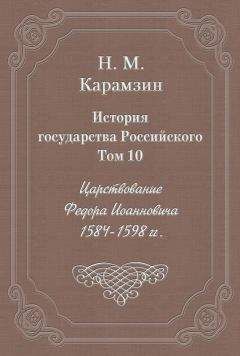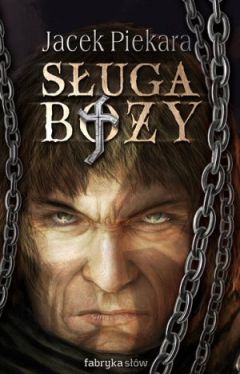Как человек, попавший «из грязи в князи», он с большим вниманием относился к внешней стороне своей новой жизни. Царствование он начал с изменения титула — стал именоваться «пресветлейшим и непобедимейшим монархом Дмитрием Ивановичем, Божиею милостию, цесарем и великим князем всея России»[134]. Назвавшись цесарем, он тем самым поставил себя на одну ступень с тогдашними императорами.
Самозванец любил щегольнуть модными нарядами, в течение одного вечера переодевался по нескольку раз, зазвал из-за границы купцов, торгующих драгоценностями, — поляк Станислав Немоевский получил приглашение привезти в Москву ювелирные изделия и камни для самозванца. Особенно мило было сердцу «Димитрия» все польское — он любил тамошние порядки и обычаи, искренне считал их наилучшими, достойными подражания. К изменению внешней стороны придворной жизни относится и введение чина великого мечника.
Во дворце Скопин бывал теперь почти каждый день, нередко и ночевал там. Прием послов, царские трапезы, пиры и торжества — все придворные события сопровождала отныне могучая фигура великого мечника, стоявшего рядом с троном государя. Царь относился к нему милостиво, по-дружески; летами они не сильно отличались, и потому «Димитрий» нередко приглашал князя Михаила для бесед. Такая непринужденная, без церемоний манера общения удивляла многих придворных. Скопин рассказывал дома, как царь нарушает русскую традицию спать после обеда, не любит, как говорили на Руси, «обед сном золотить», скрывается от своей свиты. Частенько один отправляется гулять, неожиданно заходит в казну, в аптеку и к ювелирам, иногда его даже подолгу ищут в Кремле[135].
Простота общения, свободный доступ к государю могли вызвать удивление не только в России, но в любой державе того времени. В XVI–XVII веках дистанция между подданными и правителем была обязательной. Во многих странах с укреплением абсолютной власти государя разрабатывался специальный церемониал, закреплявший эту дистанцию. Более всего в этом преуспел французский король Людовик XIV — «король-солнце», чей двор копировали многие европейские государи. Многотысячная свита, сопровождавшая короля в переездах по стране, тщательно расписанный ритуал пробуждения, застолья и переодеваний короля, напоминающий спектакль, не говоря уже о балах и приемах, — все это поднимало государя на недосягаемую для его подданных высоту, делало его почти небожителем. И наоборот, сокращение дистанции, непривычная простота общения и доступность персоны государя вызывали недоумение и вели к падению авторитета власти.
«За трапезами у него было весело; его музыкантам, вокалистам и инструменталистам приходилось вовсю стараться», — замечает состоявший в охране царя немец Конрад Буссов[136]. Это нововведение — слушать во время трапезы музыку — немало должно было удивлять Скопина. Настораживало мечника и то, что веселой музыкой царь заменил молитвы перед началом и после окончания трапезы. «Пусть всякий верит по своей совести, — часто слышал Скопин от царя. — Я хочу, чтобы в моем государстве все отправляли богослужение по своему обряду». «Уж не еретик ли он?» — закрадывалось порой сомнение в душу мечника.
Свобода веры означает отсутствие веры вообще, подтверждение чему мы и видим в действиях самозванца. Впрочем, рассуждения о догматах веры не велись на площадях, при стечении народа, о них знал лишь очень небольшой круг людей.
Во время парадного стояния с мечом князь Михаил невольно прислушивался к разговорам, благо за время своей службы он научился хорошо понимать и говорить по-польски. Особенно любопытно было молодому мечнику слушать рассуждения царя о монархах других государств. С польскими гостями самозванец говорил о странностях германского императора Рудольфа II: тот, по слухам, не любил показываться на людях, сторонился всех, свободное время проводил на конюшне или в своей химической лаборатории — словом, был большой чудак. Или, как выразился «Димитрий», «император — еще больший дурак, чем польский король». Скопин заметил, как некоторые из польских гостей пожелали было заступиться за честь своего короля, но царь отвечал быстро и остроумно — ему трудно было возражать[137]. Отзывался царь насмешливо и о папе римском, высмеивая обычай целовать папскую туфлю.
Лишь об одном правителе, как заметил мечник, царь всегда говорил с несомненной симпатией: о французском короле Генрихе IV Бурбоне. Его он считал «христианнейшим королем» и намеревался летом 1606 года посетить Францию[138]. Генрих IV был успешным политиком, умевшим даже в невыгодных для себя обстоятельствах найти удачное решение: если для удержания власти было необходимо совершить сделку с совестью, он шел на это, не задумываясь, — известно, что для получения французской короны он изменил вере предков и стал католиком, произнеся знаменитое: «Париж стоит обедни». Много общего обнаруживается у французского короля и русского царя и в отношении к вопросам веры, и в отношении к подданным, и в чертах характера — например, личная отвага на поле боя.
«Есть два способа царствовать, — не раз слышал от царя Скопин, — милосердием и щедростью или суровостью и казнями; я избрал первый способ…» Самозванец действительно старался завоевать любовь своего народа, подражая во многом Генриху IV. И это ему удавалось. За 11 месяцев его пребывания на российском престоле были отменены потомственные кабалы, то есть холопское состояние перестало быть наследственным; помещики, отпустившие своих крестьян во время голода 1601–1603 годов, теряли на них свое владельческое право. Все желающие могли торговать и заниматься промыслами, никаких препятствий при въезде и выезде из страны не чинилось. Чиновникам было строго запрещено брать взятки, по средам и субботам царь лично принимал жалобы от населения на Красном крыльце в Кремле. Скопин с интересом наблюдал, как во время думского сидения царь внимательно выслушивал доклады о государственных делах и порой удивлял всех скоростью принятия решений. «Столько часов вы совещались и ломали себе над этим головы, а все равно правильного решения еще не нашли, — говорил он. — Вот так и так это должно быть»[139].
Скопин замечал, что самозванец был хорошим оратором, любил экспромты, у него был острый ум и он часто использовал в своих рассказах примеры из истории других народов. Однажды он сообщил, что Александр Македонский был человеком «великих достоинств и храбрости», потому он и по смерти ему друг. И тут же добавил, что об одном сожалеет: нет великого полководца в живых, а то бы он с ним померился и славой, и храбростью. Видно, его собственный жизненный опыт был немалым, он многое видел и многое пережил, приходилось ему терпеть пренебрежение и попреки в своем восхождении к власти, иначе как объяснить его реплику в разговоре с поляками: «Монархи любят предательство, но сами предателями гнушаются»?
Впрочем, его разговоры отличались не только остроумием, но порой и «легкостью в мыслях необыкновенной», заставляющей нас вспомнить о другом знаменитом «самозванце» — уже не русской истории, а русской литературы. Явно авантюрными и беспечными выглядят планы самозванца на будущее. Вот он разговаривает с отцом Каспаром Савицким и сообщает о своем намерении «открыть в Москве иезуитские школы, снабженные опытными наставниками». На осторожное замечание иезуита о том, что «этого нельзя сделать вдруг, по причине неимения учеников», он отвечает, что «непременно хочет». Затем его мысль перескакивает неожиданно на столь любимое им военное поприще: он говорит о своем многочисленном войске в 100 тысяч человек и прибавляет, что «он еще не решил, против кого вести это войско, — против язычников и неверных», имея в виду турок, «или против кого другого»[140]. Такая вот внешняя политика, о направлениях которой остается только догадываться, потому что не пройдет и двух дней после упомянутого разговора, как самозванца уже не будет в живых.
Однако при всей авантюрности его характера и несомненной хлестаковщине в поведении он не оставляет впечатления карикатурного типа. Образ разорителя России, щедро раздающего территории и богатства казны в угоду иностранцам, мало похож на подлинного человека, назвавшегося Дмитрием Ивановичем. Как это нередко случалось с иноземными правителями, получавшими власть в России, с самозванцем после восшествия на престол произошла метаморфоза: он забыл о своих прежних обещаниях и начал действовать в интересах России.
В письмах он постоянно уверял и папу, и польского короля в дружбе и любви к ним. Он расплатился с долгами своего тестя и своими собственными перед королем Сигизмундом III, но на требование отдать Северскую землю ответил отказом. С предложением короля объединить Польшу и Россию в подобие конфедерации — давняя мечта поляков — самозванец согласился, но никаких действий вслед за этим не последовало. Так же как и за обещанием Лжедмитрия помочь польскому королю воевать Швецию. К тому же от польского короля он потребовал называть себя императором, о папе начал отзываться без должного уважения; обещание открывать костелы в России уравновесил посылкой во Львов соболей для устроения там православной церкви.