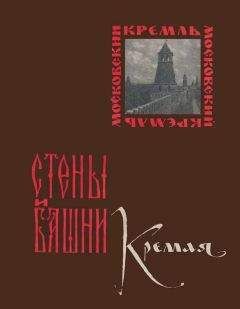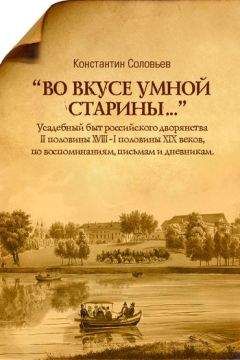Ромодановский пожевал губами, поиграл кустистыми бровями, сказал решительно, печатая слова:
- Тихон Никитич, час ещё не поздний, сходим в хоромы к царице Евдокии, в ноги ей падем - пусть нам в самом скором времени тихонько скажет...
- Да... что же скажет? - не вынес заминки Стрешнев.
- Вот что. Бабье племя к мужним телам куда приметливей и памятливей, чем наше, мужиковское. Попросим Евдокию посмотреть на тело государя с особым тщанием - тот ли супруг явился к ней из-за границы! Бородавку какую, рубец, родимое пятно пускай проверит, не изменилось ли чего, не прибавилось ли. Может, голосом грубее иль тонее стал, вонь какая чужая от него теперь идет али, напротив, стал куда благовонней телом, чем прежде. Если уж баба нам в сем деле не поможет, мы-то и подавно подмены не заметим. Может, Возницын и не прав совсем - померещилось чего, али нарочно Петр Алексеевич вознамерился стать обликом, как немец. Тогда ему мы судьей быть не должны. Он - государь наш, мы - холопы. Но если каверзу чью углядим, воровство, подмену персоны природного царя на самозванца, то такое воровство достойно розыска, хоть бы оный длился десять, а то и двадцать лет. Я тогда пол-Москвы в пыточную избу превращу, дыбы в ряд поставлю, виселицы, плахи, колеса, крючья железные повешу. Все воронье Руси ко мне слетится на сытный пир! Сам пытать начну, но допытаюсь, кто и каких резонов ради устроил ту подмену! А важней всего, что с самозванца розыск свой начну! Ну, пойдем-ка побыстрее к Евдокии. И о неприличии похода к ней ты мне и не талдычь - дело великой важности!
Бояре, выпив по кубку хмельного меда, тяжело поднялись из-за стола. Дворяне да жильцы, сидевшие в сенях и балагурившие о том о сем, разом поднялись при появлении тех, кого сам царь оставил в правителях Руси. Ромодановский и Стрешнев, поддерживая полы длинных шуб, спустились во двор, вымощенный камнем. Купола кремлевских храмов уже пылали огнем вечерней зари. Перед тем, как войти в палаты царицы Евдокии, оба боярина тайком от следовавшей по пятам свиты перекрестились.
На следующий день, в Преображенском, Лже-Петр проснулся рано, но долго лежал в постели, впервые ощущая себя царем, хоть и думал, пренебрежительно морща губы, когда осматривал суровую обстановку спальни: "Разве сие спальня монарха? Ничего сходного с тем, что я видел даже у голландского штатгальтера, не говоря уже о покоях Вильгельма Английского, Римского кесаря или Августа Польского! Какая бедность!"
Он лежал на неширокой кровати, не имевшей балдахина, резных, позолоченных столбиков по углам, правда, на мягкой пуховой перине, с одеялом, обшитым по краю каким-то гладким мехом. Рядом с постелью серебряная лохань, даже не покрытая сверху, на стене, в углу - богатые образа, пониже и чуть в стороне - рукомойник над медным тазом. Английский комод, правда, очень неказистый, грубый - такому бы стоять в доме купца средней руки. Стол на точеных ножках, с кувшином кваса, недоеденные с вечера пироги с зайчатиной и щукой.
Но Лже-Петр тут же понял, что иной обстановка его спальни в Архангельском дворце и быть не может, потому что он возвратился в покои, оставленные полтора года назад настоящим государем Московии. "Неужто так жили его отец и дед? - уже с раздражением подумал Лже-Петр. - Где же азиатская пышность? Где десятки рабов, ждущих лишь одного движения моих бровей, чтобы тут же исполнить любую мою прихоть? Где полунагие рабыни с опахалами? Где изысканные яства? Или пироги и студень, которыми кормили меня вчера, приличная еда для царя, правителя пятнадцати миллионов подданных? Нет, тот Петр, что сейчас томится в заточении, даже его отец, дед - не есть настоящие русские цари! Моя родина сделала меня помазанником, так я буду им! Но не Петром Алексеевичем я вернулся к русским из Германии, Голландии и Англии, а Иоанном Грозным! Чтобы хорошо править русскими, чтобы они любили своего царя, нужно быть не царем-плотником, а царем-деспотом, не царем-отцом, а царем-богом!"
Он скинул с постели свои мосластые ноги, опрокидывая с грохотом ночную лохань, громко закричал:
- Постельничий! Стольники! Кто там есть в сенях?
Тут же распахнулась дверь. Молодой стольник Троекуров, сам недавно вставший, почесываясь и позевывая, в расстегнутом польском кафтане появился в спальне, спросил лениво:
- Чего изволишь, государь всемилостивейший?
Лже-Петр, стоявший перед ним во весь свой великанский рост в длинной, до щиколоток ночной рубахе, смазал Троекурова по щеке, заорал, топнув босой ногой:
- Что чешешься, скотина? Как стоишь перед государем?! Али хочешь, чтоб имения тебя лишил, в Азов служить отправил? Гляди-ка, взбоярились здесь все! Позабывали, что на службе государевой и жалованье за свое нерадение имут! Меншикова Александра, Лефорта Франца сейчас ко мне зови! Ежели спят еще, стреляй над ухом из пистоли, хошь - из гаубицы, а добудись! Я чаю, Меншиков на радостях вчера до полуночи с Бахусом якшался, ну да мне безразлично! Чтоб в самом скором времени здесь были!
Троекуров убежал. Вместо него явился Александр Данилович, в одних портках, даже без рубахи, но в косо надетом парике. Лицо распухло, глаза не разлепить.
- Ну, слышу, уже шумишь, мейн липсе фринт*. Али тяжко было спать на новом месте?
Лже-Петр, дергая щекой, так крикнул на Алексашку, что Данилыч покрылся от страха гусиной кожей - прежде никогда не видел он царя столь разозленным. Вытолканный за дверь, бросился в свои покои, понимая сам, что виноват - явился к государю полуголым. Через пять минут бежал к нему обратно, но уже в штанах, ботфортах и кафтане, на ходу повязывал нарядный галстук, не забыв повесить на портупею шпагу. У царя застал Лефорта, который предусмотрительно был наряжен, как положено для разговора с государем.
Лже-Петр, все ещё нахмуренный, Меншикову и Лефорту показал на стулья близ стола, но сам не сел - как был в ночной рубахе, стал быстро ходить вокруг, руки на спине сцепив. Говорил отрывисто и нервно:
- Понеже я явился в стольный град государства после полуторагодовой отлучки, то хочу ознаменовать событие сие великим праздником. Собираюсь первым делом учинить я пышный въезд в Москву, а посему распорядитесь, чтоб доставили в Преображенское коней с богатой сбруей, праздничные одежды для меня, приближенных, свиты, лакеев и прочих, кто со мной войдет в Москву.
Лже-Петр увидел, что Лефорт уже выхватил из кафтанного кармана листок бумаги, свинцовый карандашик и стал записывать - понравилось.
- Приготовить надобно бочонок с серебром - будем бросать монеты в толпу народа. На Красной площади сегодня распорядитесь поставить лавки и столы, на коих для народа устроить угощенье - хлеб, жареное мясо, пиво, вино. Да всего побольше. В Кремле для родовитых бояр, дворян, купцов тоже поставите столы. На сем обеде я появлюсь с наследником. Сегодня же хочу увидеть соколиную охоту. Вечером - кулачные бои, ристалища, да медведей пусть выведут, а кто-нибудь из охочих людей пусть выйдет против медведя с рогатиной или ножом.
Лефорт строчил, а Меншиков просто задыхался от восторга, облизывал пересохшие с похмелья губы, дергал галстук. Петр, казавшийся ему ещё в Голландии каким-то странным, коряво говорившим, нелюдимым и всего страшившимся, здесь, в Москве, будто расправил крылья.
* Мой любезный друг (искаж. нем.).
- Да, мин херц, надобно порадовать народ, а то втемяшится им что-нибудь в башку, как недавно стрельцам - эх, баловной народ! Водки бы только им поболе - сволочь на угощение повадна. Дворецкого сейчас покличем, пусть везет сюда одежды для церемонии, мы же подарками займемся, захлебывался от предвкушения Меншиков, уже видевший себя неподалеку от Петра въезжающим в Москву на белом польском скакуне, задорого приобретенном в конюшне короля Августа.
- Да, с подарками промашки не может быть! - щурил глазки Франц Лефорт. - У меня, всемилостивейший государь, уже все расписано, все наготове: что вашей матушке вручить, что августейшей супруге, царице Евдокии Феодоровне, что наследнику, что Прасковье Феодоровне, царице, вдове братца вашего, что царице Марфе Матвеевне, вдове царя Феодора, что сестрице, Наталье Алексеевне...
- Ладно, вижу, что всех упомнил, не забудем, - дернул усом Лже-Петр, видя в усердии Лефорта назойливость и суетливость. - Сейчас пошлите гонца к царице Евдокии. Пусть от меня с поклоном скажет, что ввечеру явлюсь к ней в спальню. Баню пускай натопят...
Меншиков так и расплылся глумливой рожей, точно он сам и был царем, готовившимся к встрече с миловидной, заждавшейся объятий мужа супругой.
- Да ещё пускай ей скажут, что из окошка в сумерках увидит фейерверк немецкий - подивится. Ладно, довольно. Чего запамятовал, дорогой вспомню. Чай, теперь долго не уеду из Москвы. Править буду по-старому, как отец и дед мой царили.
Уже через два часа, к полудню, на обширном дворе Преображенского все задвигалось, засуетилось. Ржали отдохнувшие за ночь кони, впрягались в вычищенные колымаги, рыдваны, кареты, седлались нарядными седлами, облекались драгоценной, с жемчугами и золотыми бляшками, мохрами и кистями, сбруей, с позлащенными стременами. Веселые, незлые перебранки и матюги конюхов, беготня казаков и гайдуков, стременных и дворянчиков посольства, вернувшихся вчера с царем. Когда поезд был готов, на крыльце явились государь, Александр Данилыч, Лефорт, Головин - все в русских одеяньях, как приказал Лже-Петр.