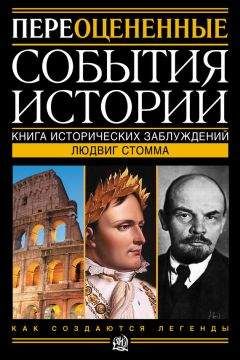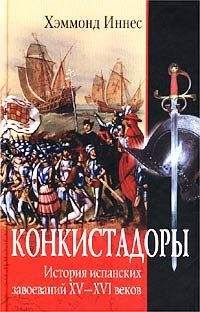После битвы под Варной Константинополь был потерян окончательно. Константин XI Палеолог не мог рассчитывать на чью-либо помощь. Падение Византии – это был уже только вопрос времени.
29 мая 1453 г. войска султана Мехмеда II, сына Мурада II, готовились к решающему штурму Константинополя. Ни императору Константину, ни его славному полководцу, одному из самых выдающихся военачальников своего времени, генуэзцу Джованни Джустиниани Лонго нельзя было отказать ни в храбрости, ни в решительности. Неисправимый оптимист Роджер Кроули в своей увлекательной книге («1453. Падение Константинополя», Варшава, 2006) пишет, что все еще было возможно. Если бы христиане отразили этот штурм, вероятно, турецкие войска охватили бы неуверенность и уныние, которые в итоге заставили бы их отступить. Писатель ошибся. Византии был не только подписан геополитический приговор, но на тот момент все уже было предрешено. Два месяца непрерывной бомбардировки большими турецкими осадными пушками разбили легендарные «неприступные» стены города. Отчаянное возведение в проломах частоколов не в состоянии было их заменить. Небольшие византийские пушки с близкого расстояния могли нанести урон атакующим янычарам, но не достигали турецких окопов и ни в малейшей степени не вредили вражеской артиллерии. О чем это говорит? Да о том, что стоявшая на низшем цивилизационном и техническом уровне развития по сравнению с Османской империей Византия, брошенная в столь важный для нее момент христианскими союзниками, на поле боя устоять не могла. Достаточно хотя бы вспомнить, что грозные пушки отливал тогда для турок некий Орбан – венгр и католик, нашедший в лице султана Мехмеда мецената, которого напрасно искал у себя на родине.
Последний штурм начался в 1:30 ночи. Загрохотали пушки. Обстрел имел целью заставить посты на стенах уйти со своих мест, а грохот – заглушить топот атакующего со всех сторон турецкого войска. Это удалось лишь отчасти. Первая волна атакующих, правда, подошла на расстояние, с которого уже могла поразить защитников стрелами из луков, камнями из пращ и пулями из аркебуз. Следующие линии нападавших, бежавших к стенам с фашинами для переправки через рвы и приставными лестницами, встретили уже организованный отпор. Сам император показался на стенах. На головы турок лилось кипящее масло, сыпались камни и заостренные жерди. Потери были огромны. Штурмовавшие решили отступить, но султан Мехмед был готов к такому развитию событий и предусмотрительно разместил в тылу у наступавших специальные отборные части, которые, безжалостно убивая побежавших, гнали остальных обратно в бой. Этот нехитрый прием сделал настоящую карьеру в военной тактике следующих столетий, и прежде всего, в обеих мировых войнах XX в. Таким образом, штурм продолжался два часа, пока на поле сражения среди трупов и раненых не остались жалкие единицы, едва державшиеся на ногах. Этим несчастным позволили, наконец, отступить, а в бой были брошены новые силы. Малой их части – примерно 300 анатолийцам – удалось на этот раз ворваться в город через один из проломов в стенах. Византийцы всех их перебили, но психологический эффект оказался весомым. «А все-таки внутрь можно прорваться», – разнесся слух среди солдат султана. «Им удалось прорваться через стены», – в ужасе шептали осажденные. Тем не менее, казалось, что город не пал духом. Критовул («Critobuli Imbriotae Historiae», Берлин, 1982) сообщает: «Не сломили их ни голод, ни бессонница, ни кровавые раны, ни зрелище умирающих братьев и сестер. Ничто не смогло поколебать их решимости и воли к борьбе». Вполне возможно. Однако начинался рассвет, и сражение продолжалось уже свыше четырех часов. У валившихся с ног от усталости защитников не было никаких резервов, тогда как Мехмед бросил в бой свежие силы, в том числе лучших из лучших – своих отборных янычар из султанской гвардии. Он лично подъехал к ним верхом и воодушевлял щедрыми обещаниями. В ответ раздались такие восторженные крики, что, как пишет Роджер Кроули, «их услышали на азиатском берегу в семи километрах от лагеря». И все же защитники, чьи силы таяли как весенний снег, не отступили ни на шаг. Генуэзцы Джованни Джустиниани и братья Боккьяро проявляли чудеса героизма. Вечной славой покрыли себя греческие лучники Теодора из Кариста, защищавшие Харисийские ворота. Казалось, что мусульмане готовы пасть духом, и их напор ослабевает. «Но тут, – дадим еще раз слово Кроули, – два странных события повернули колесо Фортуны […]. Возвращаясь после вылазки, один из итальянских солдат не закрыл за собой калитку, что в предрассветных сумерках заметили турки. Около пятидесяти турецких воинов вбежали по лестнице на стены и застали врасплох защитников Цирковых ворот. Одни были убиты, другие предпочли прыгнуть вниз и разбиться. Точно не известно, что произошло потом; похоже, что чужаков удалось быстро окружить и уничтожить, однако они успели сорвать с нескольких башен хоругвь Святого Марка и императорские штандарты с орлом и заменить их османскими флагами. Константин и Джустиниани, не зная об этом эпизоде, твердо держали оборону, но тут случилось худшее несчастье: ранили Джустиниани. Некоторые сочли это Божьим знаком. Бога христианского или мусульманского, который не услышал молитв или, наоборот, к ним прислушался. Для начитанных греков это стало просто-таки цитатой из Гомера […] в этот момент равнодушная богиня, взиравшая на бой с олимпийским спокойствием, решила судьбу противостояния и повергла героя в прах, а его сердце обратила в сердце зайца. Все это вовсе не значит, что сражение тут же кончилось. Однако византийцы утратили придававшую им сил надежду. Император Константин отступил в свой дворец». Раненого Джустиниани принесли на плаще в город, где были развернуты импровизированные лазареты. К несчастью, генуэзцы не хотели оставлять своего любимого командира и последовали за ним, оставив башни. Напрасно Константин заклинал их вернуться на свои позиции. Это только усугубило общее замешательство и дезориентировало растерявшихся защитников. Заметившие это турки удвоили свои усилия. Мехмед примчался галопом к первой линии наступления и начал криками подбадривать янычар. Столь бешеного приступа осажденные уже не выдержали. Здоровенный янычар Хасан из Укухара, несший султанский штандарт, ворвался на стену и высоко его поднял. Он практически сразу был зарублен греками, но сам вид гиганта, возвещавшего победу с вершины вражеских укреплений, не только навсегда вошел в турецкую национальную легенду, но и вызвал у атакующих многократный прилив сил и ярости. Никто и ничто уже не могло их сдержать. В мгновение ока турки ворвались в город, словно перехлестнувшая через стену волна. Оборонявшиеся со стен бежали к центру города, кое-где в узких улочках пытаясь еще сопротивляться. Ни император, ни его полководцы уже не владели ситуацией. Толпы горожан в панике метались из стороны в сторону в безнадежной попытке спрятаться. В эти первые минуты больше жителей было затоптано согражданами, чем погибло от вражеских мечей. Весьма вероятно, что такая участь постигла и самого императора Константина. Рассказы о том, как он сражался в последние мгновения, не подкрепляются никакими достоверными свидетельствами. Впрочем, так, наверно, лучше, поскольку, исчезнув без следа, император вошел в легенду, появляясь в разных местах и ободряя восточных христиан в течение многих десятилетий после своей гибели. Когда большинство турецких частей стремились ворваться в богатые районы города, дисциплинированные янычары вернулись, чтобы открыть ворота Константинополя. Через одни из них, названные в честь святого Романа, въехал в город султан Мехмед, с ним – приближенный, который нес бунчук с конским хвостом. Говорят, что, поднявшись на возвышение, султан сначала помолился, а затем спокойно, не проявляя ни радости, ни прочих чувств, наблюдал за происходящим. На стенах добивали последних защитников, на улицах без особого труда ликвидировали оставшиеся очаги сопротивления. Затем начался жадный и безобразный грабеж. Мехмед это видел и до определенного момента не препятствовал своим воинам. Будучи опытным властителем, он понимал, что армия должна насытиться победой, чтобы всегда обожать того, кто ее к этой победе привел. В данный момент для султана было важно одно – он взял Константинополь.
Затем началась резня – вещь в ту эпоху привычная и чуть ли не ритуальная… Правда, в данном случае она несколько сдерживалась тем обстоятельством, что турки-победители предпочитали трудоспособных мужчин, женщин и здоровых детей продавать в рабство, нежели убивать почем зря. Да, конечно, цены на невольников мгновенно упали ввиду перенасыщения рынка почти на 70 %, но это уравновешивалось количеством и качеством товара. Христианские хронисты пишут о «нескольких сотнях тысяч» жертв резни, тогда как мусульманские – о примерно таком же количестве невольников, проданных на рынках в Бурсе, Никее и Адрианополе. Вторая цифра, подкрепленная графиками девальвации цен, худо-бедно поддается проверке, а следовательно, куда больше заслуживает доверия и позволяет усомниться в легенде о мучениках, распространившейся в ту пору по Европе. Особенно если учесть, что большинство жителей осталось в Константинополе, и город вовсе не обезлюдел. Ходжа Сад-ад-дин рад был каре, постигшей неверных, и не без удовольствия добавил: «Святыни были освобождены от мерзких божков и очищены от их идолопоклоннической гадости», но это заявление чисто пропагандистское. В действительности же, дело обстояло совсем иначе. Роджер Кроули написал: «Город, восстановленный по приказу Мехмеда, ничуть не соответствовал рассказам христиан об ужасах ислама. Султан считал себя не мусульманским властителем, а преемником Римской империи и намеревался воссоздать мультикультурную столицу, в которой все жители пользовались бы определенными правами. Он принудительно поселил в городе греков-христиан рядом с турками-мусульманами, гарантировал безопасность генуэзскому анклаву в Галате и запретил там жить туркам. Монах Геннадий – ярый противник унии – был выкуплен в Эдирне и доставлен в Стамбул в качестве патриарха православной общины. “Будь патриархом, пусть судьба тебе благоприятствует, и прими заверения в нашей дружбе, сохранив все привилегии, которыми пользовались патриархи до тебя”, – услышал он от Мехмеда. Христиане проживали в своих районах и сохранили отдельные церкви. […] Хотя спустя столетия Константинополь подвергся исламизации, Мехмед заложил основы государства многих культур по модели Леванта. Людей с Запада, не ослепленных стереотипами, ждало много сюрпризов. Когда немец Арнольд фон Харфф прибыл сюда в 1499 г., то с удивлением обнаружил два монастыря францисканцев в Галате, где по-прежнему обитали христиане. “Турки никого не принуждают отречься от своей веры, не пытаются никого переубедить и не слишком хорошего мнения о вероотступниках”, – писал Ян Венгр в XV в.». Более пространно формулирует ту же мысль Алессио Бомбачи («Османская империя», Варшава, 1966): «Мусульманская традиция при внешней агрессивности являлась весьма толерантной, что позволяло султанам удачно разрешать проблему взаимоотношений между победителями и побежденными. Институт zimma (защита) означал для христианского населения спокойную жизнь по канонам своей веры и согласно своим законам, в том числе гарантию неприкосновенности жизни и имущества. […] Мехмед II проводил прямо-таки греколюбивую политику: philhellen – так называл султана его греческий биограф Критовул, приписывая ему героические деяния в духе Туцидида. И призывает греков селиться в стране. […] А среди греков, не имеющих уже своих василевсов и даже надежды на реванш, возникло филотурецкое течение, к которому принадлежали выдающиеся личности». Византия погибла, а восточно-христианская культура сохранилась.