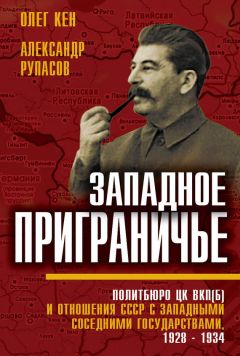Ознакомительная версия.
Непредвиденный исход начатых Москвой переговоров являл собой пример «исторической необходимости» – необходимости компромисса между интересами безопасности СССР и его западных соседей, – которая прокладывала себе путь без оглядки на расчеты Наркоминдела и Политбюро. Укоренению в советской политике новых подходов, вытекавших из согласия СССР на многосторонний региональный акт, препятствовали неутешительные для нее ближайшие последствия Московского протокола (называвшегося порой «Варшавским»): влияние Польши в регионе (особенно в Латвии) резко возросло, отношения СССР с Литвой вступили в состояние кризиса, с его молчаливого согласия состоялась «моральная демонстрация солидарности» западных соседей – всего этого советскому руководству прежде удавалось избегать, хотя и ценой отказа от разрядки напряженности[266]. Возможность приступить к нормализации отношений с Румынией, возникшая после прихода к власти национал-царанистского кабинета Ю. Маниу (ноябрь 1928 г.), визита в Москву румынского представителя и совместного подписания акта о неприменении силы, по решению Политбюро была вскоре сведена к минимуму[267]. В апреле 1929 г. советское руководство вступило на путь искусственного обострения отношений с Польшей[268]. В правящих кругах широко распространились настроения в пользу недопустимости уступок капиталистическим странам, подобных сделанным при подготовке Литвиновского протокола[269]. Раскол, происшедший в Политбюро в конце января – начале февраля и выплеснувшийся на пленуме ЦК ВКП(б) в апреле 1929 г. в открытую атаку на «правых» (к которым был близок Литвинов), стимулировали возвращение сталинского руководства к конфронтационной линии в отношении стран региона. Этому также способствовала эйфория по поводу предрешенного поражением консерваторов восстановления дипломатических отношений с Англией[270]. «Рыкова с Бухариным и Литвинова» руководитель Политбюро изобличал в том, что «эти люди не видят ни роста силы и могущества СССР, ни тех изменений в международных отношениях, которые произошли (и будут происходить) в последнее время»[271]. «Держитесь покрепче в отношении Китая и Англии – поручал он соратникам. – Проверяйте во всем Литвинова, который, видимо, не симпатизирует нашей политике»[272].
Ирония истории СССР не замедлила себя ждать. «Наступление социализма по всему фронту» уже в начале 1930 г. обернулось глубоким социально-политическим и хозяйственным кризисом, диктовавшим необходимость любой ценой продлить «мирную передышку» и получить от соседей гарантии невмешательства и ненападения. В международном контексте того требовал многомерный кризис Рапалло, в первые месяцы 1930 г. принявший открытую и тяжелую форму. Примат внутриполитических соображений и их осложненность германской проблемой вели к сосредоточению новых дипломатических усилий главным образом на Польше. В середине марта, озабоченное тем, «что польское правительство может пойти на вмешательство»[273], Политбюро вплотную подошло к решению предложить Польше возобновить переговоры о пакте ненападения, известие об этом Наркоминдел лансировал в британскую печать[274]. В конечном счете советское руководство решило ограничиться половинчатыми публичными заявлениями о желании добрососедских отношений с Польшей: выступление с инициативой новых переговоров было равносильно отказу от выработанной в 1927 г. позиции и чревато повторением опыта Московского протокола. «Военная тревога» 1930 г., далеко вышедшая за рамки привычной для соседей СССР «сезонной войны нервов», в феврале-мае 1930 г. затронула весь пояс Восточной Европы[275].
К лету 1930 г. острота внутриполитического кризиса в СССР ослабла, тогда как в Румынии, Финляндии и Польше он стал приобретать жесткие формы. В Румынии он разрешился вступлением на престол Кароля II в июне 1930 г. и последующей перестройкой государственного управления. Правящие круги Польши и Финляндии были озабочены осенними парламентскими выборами, режим Пилсудского «пацифицировал» Восточную Галицию. В то время, как импульс к активизации советской политики в отношении западных соседних государств угасал, реконструкции и увеличению Красной Армии был придан новый толчок. Решения PBC СССР, 13 июня 1930 г. утвердившего план строительства РККА на ближайшие годы, были перечеркнуты Сталиным, потребовавшим резкого увеличения советских вооруженных сил мирного и военного времени. «Поляки наверняка создают (если уже не создали) блок балтийских (Эстония, Латвия, Финляндия) государств, имея в виду войну с СССР, – мотивировал Сталин новую директиву. – Я думаю, что пока они не создадут блок, они воевать: СССР не станут, – стало быть, как только обеспечат блок. – начнут воевать»[276]. Неудивительно, что большинство решений Политбюро осени 1930 г. были посвящены задачам «восстановления прежних дружественных отношений» с Литвой и отпора охваченной антикоммунистической кампанией Финляндии. К Москве, как показал «процесс Промпартии» и прозвучавшее на нем обвинение Франции в подготовке антисоветской интервенции, вернулась самонадеянность, пусть и смешанная со страхом перед «военным кулаком мирового империализма» – Польшей («ведомой и управляемой французским капиталом и его генеральным штабом») и «остальными нашими западными соседями», включая «тыловую базу интервенции» – Чехословакию (которые «постоянно консолидируются против нас» «в согласии» с Польшей)[277]. Эти опасения, однако, не помешали спровоцировать обострение отношений с Францией в октябре-ноябре 1930 г. и введение ею экономических санкций против СССР. На свой лад истолковывая противоречивую московскую конъюнктуру, в ноябре-декабре 1930 г. полпред СССР в Варшаве в доверительных беседах с руководителями польской дипломатии о двустороннем сближении вышел за рамки инструкций НКИД. В ответ «г-н Маршал, в принципе решил принять предложения [Антонова-]Овсеенко как в деле актуализации по существу никогда не прекращенных переговоров в деле заключения какого-либо политического договора, так и вступления в переговоры о торговом договоре»[278]. Польская дипломатия приступила к консультациям с балтийскими государствами и союзной Румынией относительного нового тура переговоров с Советами. Дело получило огласку, за ней немедленно последовало категорическое опровержение Москвой возможности проявления ею подобной инициативы[279]. Попытки достичь соглашения между СССР и Польшей по экономическим вопросам продолжились[280], однако политические отношения были заморожены. Период осени 1930 – весны 1931 г. стал эпилогом десятилетних усилий обеспечить советские внешнеполитические интересы на основе сближения с ревизионистскими государствами[281].
Расшатывание основ версальского миропорядка побудило его главного гаранта – Францию – искать способов нормализации отношений с СССР. Начатые в апреле 1931 г. советско-французские переговоры о политическом и коммерческом соглашениях привели к согласованию текста двустороннего пакта о ненападении и неучастии во враждебных комбинациях. Переговоры велись под аккомпанемент советских деклараций о «мирном сосуществовании стран, независимо от их социально-политического и экономического строя»[282], 10 августа 1931 г. в Париже был тайно парафирован договор о ненападении между СССР и Францией. Советское руководство видело себя на пороге грандиозного политического успеха: не сумев вбить клин между Польшей и ее восточноевропейскими партнерами, оно, казалось, смогло оторвать от Малой Антанты и Польши покровительствовавшую им великую державу. Расчет оказался иллюзорен: как доказала польская инициатива 23 августа, путь в Париж проходил если не через Бухарест и Прагу, то через Варшаву, Хельсинки, Ригу и Таллинн. Демарш польского посланника, заявившего, что правительство Польши считает продолжающимися переговоры с СССР о пакте ненападения, встретил резкое и единодушное неприятие руководства НКИД, с которым были склонны согласиться и находившиеся в Москве члены Политбюро. Вступление в переговоры с Польшей представлялось им авантюрой, способной разрушить традиционное взаимопонимание СССР с Германией, в июне 1931 г. подтвержденное протоколом о продлении срока действия Берлинского договора 1926 г. «Когда мы найдем это выгодным для себя, мы пойдем и на пакт с Польшей, вопреки Рапалло», писал Литвинов в Политбюро, но это время еще не пришло[283]. В августе 1931 г. советская дипломатия была как никогда близка к участию в наметившемся «концерте великих держав», предоставлявшем СССР возможность сближения с Францией при сохранении дружбы Германии и укреплении связей с Италией[284]. Переговоры с Польшей не только обещали внести разлад в постепенное налаживание такого широкого взаимопонимания, но и представлялись излишними: как констатировали руководители НКИД, на всем протяжении переговоров с Советами Франция не поднимала вопроса о подключении к ним своего главного восточноевропейского союзника[285].
Ознакомительная версия.