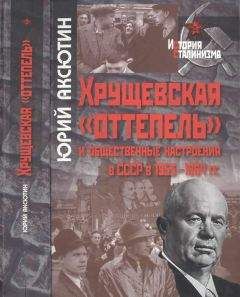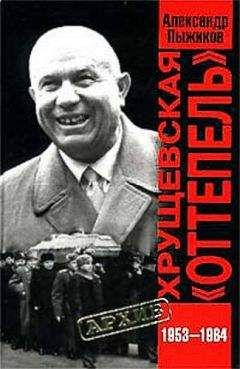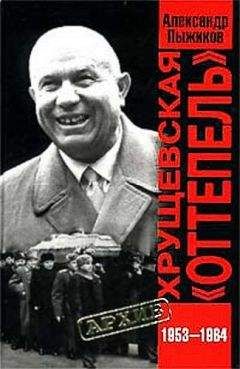1.3.2. Первая и недолгая «оттепель» в духовной жизни
Перемены в верхах и изменения во внешней и особенно внутренней политике не могли не вызвать определенные подвижки в общественных настроениях. В предыдущих параграфах уже говорилось о реакции населения на смерть Сталина, реабилитацию врачей, арест Берии и выступление Маленкова в Верховном Совете. Публикация в газетах остро критичных материалов сентябрьского пленума ЦК КПСС, касавшихся, вроде бы, только вопросов сельского хозяйства, заставила многих читателей этих материалов задуматься над более общими и глобальными вопросами, породила у них надежды на лучшую жизнь. В том числе в духовной сфере. Для этого были, казалось, немалые основания.
23 июня 1953 г. президиум правления Союза писателей решил вновь принять в члены союза М. Зощенко. Узнав о том, что редактор юмористического журнала «Крокодил» побывал у него после этого и попросил отдать для публикации все его рассказы, написанные за долгие годы вынужденного молчания, писатель, критик и литературовед К.И. Чуковский записывал в свой дневник: «Какое счастье, что 3-ко остался жить, а ведь мог свободно умереть… от голода… Теперь уж этого больше не будет!»{306}.
Ощущение того, что «теперь уж этого больше не будет», охватывало все большее число литераторов и деятелей искусства.
22 августа «Литературная газета» на примере судьбы романа И. Шамякина «В добрый час» выступила против того, что «некоторые редакторы и критики неверно ориентируют писателей, толкают их на ложный и скользкий путь лакировки действительности», и призвала писателей в таких случаях «найти в себе мужество противостоять упрекам критиков, если они несправедливы»{307}. 17 октября на партийном собрании московских писателей, посвященном итогам пленума ЦК КПСС, с резким осуждением «лакировщиков действительности» выступило 5 человек,
20 октября 1953 г. К.И. Чуковский, побывав в Переделкино у романиста К.А. Федина, записывал в своем дневнике: «Говорит, что в литературе опять наступила весна. Боря Пастернак кричал мне из-за забора:
— Начинается новая эра, хотят издавать меня!»{308}.
5 декабря тот же Чуковский, побывав с Фединым у министра культуры П.К. Пономаренко, снова записывал в дневник: «Он больше часу излагал нам свою программу — очень простодушно либеральничая. «Игорь Моисеев пригласил меня принять его новую программу. Я ему: «Вы меня кровно обидели». «Чем?» «Какой же я приемщик?! Вы мастер, художник — ваш труд подлежит свободной критике зрителей — и никакие приемщики здесь не нужны». — Я Кедрову и Тарасовой (главному режиссеру и ведущей актрисе МХАТ им. Горького. — Ю. А.) прямо сказал: «Отныне ваши спектакли освобождены от контроля чиновников»… Мы поблагодарили его за то, что он принял нас. «Помилуйте, в этом и заключается моя служба» и т. д.»{309}.
«Оттепелью» назвал свою новую повесть И.Г. Эренбург. Торопясь отнести ее в редакцию одного из столичных журналов, он одновременно спрятал в ящик письменного стола непредназначавшееся для печати стихотворение о судьбе интеллигенции, без которой «ту кашу заварили». В нем он подводил такой итог: «Много пройдено и добыто, / оказалось, что ошибся повар, / и должны мы кашу ту расхлебывать / без интеллигентских разговоров»{310}.
Без интеллигентских разговоров, разумеется, не обошлось. Очередным поводом для них стала публикация в декабрьском номере журнала «Новый мир» статьи критика В.М. Померанцева «Об искренности в литературе». Статья эта многих поразила. «Она была как глоток воздуха в затхлом мире условностей, фальши и слащавости… Неведомый В. Померанцев возвращал вещам свое место, и было странно, как до сих пор советские писатели и советские читатели могли думать, писать и читать по-другому». — Так по крайней мере это представлялось вчерашней школьнице Ольге Кучкиной. Имя автора этой статьи как появилось, так и исчезло, «но память о глотке воздуха осталась навсегда. Может, с этого момента и начался процесс постепенного прощания с догматическими шорами»{311}.
Поздравляя одну свою знакомую с Новым годом, Б.Л. Пастернак писал: «Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного: прекратилось вседневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших, некоторые возвращаются». Но признавая, что теперь он может пользоваться своею независимостью «с гораздо меньшим риском», поэт все же полагал, что его время еще не пришло: «То, что я пишу все с большим приближением к тому, что думаю и чувствую, пока к печати не пригодно… Требуется воздух… А воздуха еще нет. Но я счастлив и без воздуха. Вот пойми ты это, пожалуйста»{312}.
Немало пищи для интеллигентских разговоров добавил февраль 1954 г. Отправленного на освоение целины в Казахстан Пономаренко на посту министра культуры сменил профессиональный философ и идеолог, бывший начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров. Что может за этим последовать? И что из себя представляет новый министр?
— Говорят, он дон Жуан, — делился своими сведениями Чуковский с другим писателем — В.П. Катаевым.
— Знаю, — отозвался тот. — Мы с ним вдвоем состязались из-за одной замечательной дамы.
Фадеев бил себя в грудь:
— Какой я подлец, что напал на чудесный, великолепный роман Гроссмана (речь шла о романе «За правое дело», подвергшемся травле за год до этого. — Ю. А). Из-за этого у меня бессонные ночи. Все это Поспелов, он потребовал от меня этого выступления.
У Федина опять разговор о «гужеедах», взявших в Союзе писателей верх и называющих «эпоху Пономаренко» — идеологическим нэпом, о мытарствах Твардовского и Шолохова. У первого из них начальство сочло подлежащим удалению два места из продолжения поэмы «За далью даль», у второго — та же история со второй частью «Поднятой целины»{313}. Спорили и о том, насколько правильно решение ЦК приступить к массовому освоению целинных и залежных земель. Читали опубликованную в журнале «Театр» пьесу Л.Г. Зорина «Гости» о закулисной стороне одного судебного процесса, в ходе которого судью и адвоката обвинили в «компрометации следствия». Восхищаясь смелостью автора, повторяли вслух реплики его героев и обсуждали, что бы могли означать диалоги между чиновником юридического ведомства — «строителем державы» и журналистом — «разгребателем грязи»: «Пора, знаешь, положить конец наскокам всяких субъектов на государственный аппарат. — Гости приходят и уходят, а хозяева остаются… Мы пойдем к министру, в “Правду”, в ЦК. Правды добьемся. — Запомните, мы никому не позволим бросить на нас тень»{314}.
Годовщина смерти Сталина была отмечена более чем скромно. Накануне, 4 марта 1954 г., на предприятиях и в агитпунктах (приближались выборы в Верховный Совет СССР) состоялись беседы, посвященные его памяти. Но зато обошлось без торжественно-траурного заседания в Большом театре. На следующий день «Правда» поместила на первой полосе большой портрет генералиссимуса и передовую — « И.В. Сталин — великий продолжатель дела Ленина», а на второй полосе — статью Г. Александрова «Могучая сила творческого марксизма». Речь в ней шла о том, что сделано за год после смерти Сталина, причем особо подчеркивался тезис о решающей роли масс в истории. А 20-летняя обитательница дома инвалидов в Тобольске Н. Вишнякова записывала в свой дневник: «Вот она, годовщина со дня великого горя!.. По радио сегодня ни слова о трауре. И тревожно на душе, и в то же время как-то лучше: не насильно, не со стороны идут мысли об этом дне и жизни и обо всем великом и малом»{315}.
Диссонанс в этот относительно спокойный тон внес мартовский номер журнала «Новый мир» с опубликованной в нем поэмой его главного редактора А.Т. Твардовского «За далью даль». И те, кто с некоторым недоумением вопрошал себя о причинах столь вялой реакции соратников вождя на годовщину его смерти, с воодушевлением вчитывались в такие строки: «Так мы на мартовской неделе, / когда беда постигла нас, / мы все как будто постарели / в жестокий этот день и час. / Ему, кто вел нас в бой и ведал, / какими быть грядущим дням, / мы все обязаны победой, / как ею он обязан нам»{316}.
Были хвалебные отзывы, были и критические. Некто Чишуников прочел поэму группе молодых земляков, бежавших из смоленских колхозов, и то, что он услышал от них в ответ, попытался изложить в стихотворном подражании, которое и послал автору: «Поля, леса и перелески / в широкой дали всем видны, / вот только нет там урожаев/и двести грамм на трудодни. / Тебя пусть это потревожит, / ты загляни и в эту даль. / Там молодежь тебя не встретит, / она ушла в другую даль»{317}.