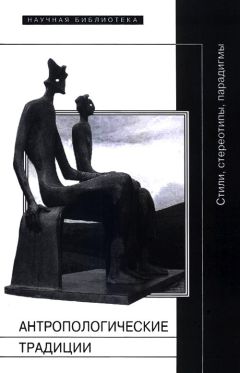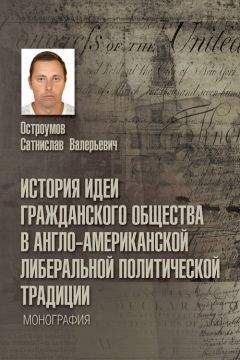Казалось бы, вот и кризис позади. Однако многие члены российского антропологического сообщества, как показал опрос, проведенный накануне VI Конгресса этнографов и антропологов России, продолжают считать, что «российская этнография находится в удручающем положении» (Абашин 2005: 8), что «нельзя не признать некоторую вторичность того, что мы называем сегодня российской антропологией» (Головко 2005: 32), что «оценить современное состояние российской этнографии/антропологии сложно, потому что… ни той ни другой в настоящий момент не существует» (Мельникова 2005: 61; Ушакин 2005: 177) и т. п. Мнения о кризисном состоянии этой дисциплины придерживаются и другие участники этого опроса — В. А. Попов, А. Б. Островский, А. А. Панченко, А. М. Решетов, П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова, А. Н. Садовой, М. В. Станюкович и др., однако причины этого кризиса называются разные: господство устаревших теорий и подходов и некачественное образование (Абашин), отсутствие институциональной основы для подготовки антропологов (Мельникова), «утечка умов» в другие профессии (Островский, Станюкович) и за пределы страны (Панченко, Станюкович), засилье научной и образовательной бюрократии, бездарно тратящей отпускаемые на науку средства (Панченко), хаос с номенклатурой субдисциплин и катастрофическое падение профессионализма, исчезновение научной критики (Попов), размывание границ дисциплины, забвение традиций (Решетов), сокращение ресурсов, конфликт внутри сообщества, дефицит свежих теоретических обобщений (Романов, Ярская-Смирнова), отсутствие возможности проведения долговременных полевых работ (Садовой) и т. д.
Я согласен с тем, что существует не одно, а множество препятствий на пути преодоления этого кризиса и противодействия провинциализации российской антропологии. Без сомнения, Интернет и зарубежные командировки немало способствуют разрушению прежней закрытости и установлению личных контактов между исследователями разных стран и континентов, однако существовавшее и в советское время отставание в целом углубляется как за счет инерции сохранения явно устаревших подходов, так и за счет появления новых факторов, связанных с переходом к рыночной экономике. Не берусь предложить здесь полный список этих причин, но значительная их часть очевидна всем, кто пытается проводить свои исследования с учетом состояния конкретной проблематики не только в стране, но и в мире в целом.
Переход на грантовую систему и одновременное сокращение традиционных источников финансовой поддержки полевых исследований содействовали появлению нового этоса в российских гуманитарных и социальных науках — этоса предпринимательства. Прежний этос бескорыстного служения истине (соглашусь с его критиками, существовавший за государственный счет) исчезает. Однако от носителей этих двух различных систем ценностей требуются весьма разные умения и навыки. Не каждый исследователь обладает полным набором того и другого, а гранты нередко получают те, кто понял правила игры и готов тратить больше времени на написание заявок и отчетность, чем на само исследование и анализ его результатов. Во многих западных исследовательских центрах наряду с персональным поиском источников финансирования существуют специальные службы поиска грантов, сберегающие время ученых и позволяющие им концентрироваться на исследовании. Недавняя атака на западные фонды в России заставила многие из них существенно сократить или вовсе свернуть свои программы поддержки научных исследований в нашей стране. Составляет ли им конкуренцию Российский гуманитарный научный фонд? Я в этом не уверен. Трудно судить о деятельности всех его экспертных советов и секций, но вот деятельность секции по этнографии дает много поводов для критики. По предлагаемой форме заявки невозможно установить, достаточно ли ее автор знаком с современной методологией и литературой, соответствуют ли избранные им методы поставленным в исследовании задачам и т. п. Заявка формальна, и самым «надежным» индикатором здесь становится фамилия автора. Поэтому гранты из года в год получает (и не получает) примерно один и тот же круг людей. При этом качество работ грантополучателей, если судить по публикациям результатов тех исследований, в которых присутствуют ссылки на фонд, тоже из года в год варьирует от откровенно слабого до хорошего, т. е. поддержка осуществляется независимо от прежних результатов получателя грантов, если он вовремя представляет отчет и публикации. Возникновение такой системы возможно только при низкой ротации членов экспертного совета, отсутствии оценки и контроля за качеством его работы по финальному результату (уровню поддерживаемых исследований, который должен оцениваться независимым органом). Принципы анонимности рецензирования и процедуры гарантирования объективности экспертизы (аргументация, наличие системы объективных показателей, понятных и прозрачных для конкурсантов), по-видимому, не соблюдаются, а случаи нарушения анонимности не расследуются. В результате в перечне поддерживаемых проектов появляются и такие, которые могли быть вдохновлены социальным воображением середины прошлого века.
Здесь самое время перейти к обсуждению той причины длящегося в отечественной антропологической дисциплине кризиса, которую я считаю фундаментальной. Это — отсутствие критики и публичных дискуссий, крайне ограниченное число площадок для критической мысли, чрезвычайно низкая культура академической критики и отсутствие потребности в ней, понимания необходимости ее культивирования. Как может успешно функционировать любой социальный институт без эффективной обратной связи? Отсутствие открытой, свободной и конструктивной научной критики, институционально воплощенное в ритуалах и практиках академической науки, в негласных правилах и условиях карьерного продвижения, в ограниченности и маломощности площадок и условий, в которых она могла бы появляться, ее нерегулярность и, наконец, само сложившееся в этих условиях отношение к критике, а именно систематическое принижение ее научной и социальной значимости, — вот те корни, из которых произрастают и слабая и неэффективная организация научной поддержки, и слабость теоретических построений. Институциональная невозможность такой критики не может не приводить к умозрительности научных конструкций. Подавление конструктивной критики блокирует обратную связь возможных потребителей (пользователей, разработчиков) теории с ее автором, народа — с властью, общества — с управленцами. Это и есть основа системного кризиса и российской науки, и российской власти, и российского общества. В контексте отечественной науки отсутствие такой критики означает размывание критериев качества, возможность произвольного администрирования при решении научных и кадровых проблем, общее падение стандартов научного поиска. Неприятие критики породило и особые историографические жанры.
Многими непредвзятыми наблюдателями уже отмечалось, что для работ по истории этнографии в России характерна известная «парадность» в изложении биографий конкретных лиц и институтов[30]. Не будет преувеличением сказать, что в историографии дисциплины начиная с послевоенного периода и вплоть до сегодняшнего дня преобладают два жанра: парадный портрет (биографический жанр) и победная реляция, т. е. неизменное подчеркивание успехов в очерках общей истории дисциплины или области исследований, конкретного научного учреждения и т. п., находящееся в полном несоответствии с конкретным уровнем ее влияния в контексте мировой антропологии. Критическая рефлексия остается жанром редким и маргинальным (распространенное опасение — «вдруг кто-то обидится»). Среди почти не используемых модусов изложения истории отечественной антропологии/этнографии — история идей. Существует множество работ в жанре биографии, истории академических институтов и университетских кафедр, есть попытки периодизации на основе событийной истории, но история идей с присущим ей вниманием к механизмам смены доминирующих парадигм и дискуссионных фокусов остается ненаписанной. Впрочем, если верить замечанию Т. Эриксена и Ф. Нильсена, что история антропологии XX в. определялась развитием идей в трех языковых зонах — немецкой (до Второй мировой войны), английской и французской, определивших «мейнстрим методологического и теоретического развития дисциплины» (Eriksen, Nielsen 2001: 160), то на долю всех остальных национальных традиций ничего не остается, кроме как гордиться отсутствующими или недооцененными достижениями.
Слабой обратной связью между «управленцами» и «управляемыми», на мой взгляд, объясняется и ситуация с развитием новых областей исследования и тестированием новой проблематики. Институционализация новых направлений в России хронически отстает от потребностей познания. Управленцы, как правило, осведомлены об этих потребностях хуже, чем сами исследователи, и уже в силу этого не склонны к постоянному и систематическому реформированию научных институтов, организации новых кафедр, исследовательских групп и отделов, адекватному финансированию новых пограничных проектов. Впрочем, исследованиям, имеющим выраженный прикладной характер или, если говорить о социальных науках, сулящим быстрый политический капитал, в этом отношении легче. В России вообще понятие социального заказа часто подменяется понятием заказа политического: у нас охотно финансируются исследования проблем, с которыми сталкивается власть (конфликты, имиджмейкерство, оценки политического рейтинга и т. п.), и плохо те, с которыми сталкивается народ (бедность, крах систем бесплатного образования и здравоохранения, падение уровня жизни и снижение качества населения). В результате в стране, где больше половины населения живет ниже черты бедности, экономисты предпочитают сочинять индикаторы и измерительные системы, маскирующие социальную пропасть между бедными и богатыми (примеры — ухищрения с расчетами стоимости потребительской корзины и минимального прожиточного минимума), а социологи и антропологи концентрируются на сиюминутных проблемах, обусловленных этим разрывом, не делая попыток анализа глубинных причин социального кризиса. Даже при изучении движений экстремистского характера их возникновение чаще объясняют психологическими и идеологическими «отклонениями» у отдельных людей, нежели растущим уровнем депривации населения целых регионов страны. Сравнения продолжительности жизни, уровней рождаемости и показателей смертности нынешнего периода с периодом 25-летней давности можно обнаружить только в узкоспециальной литературе, настолько они не в пользу сегодняшнего положения дел[31]. Это весьма тревожная тенденция, свидетельствующая о том, что социальные науки, едва успев обрести возможность объективного и непредвзятого анализа, утрачивают эту возможность под давлением власти, заинтересованной в своем позитивном имидже. Сказанное, помимо прочего, означает также, что за состояние дисциплины ответственность несут не только недальновидные политики и управленцы от науки, но и сами ученые.