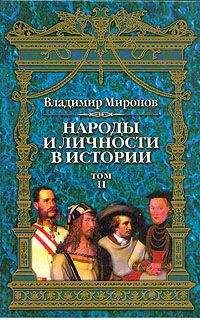Некоторые знатоки называют «старейшим импрессионистом» Камиля Писсарро (1830–1903). Оценки критикой творчества и роли художников всегда, разумеется, крайне субъективны… Скажем, Ф. Фенеон (1886), полагал, что в могучей кучке ведущее место принадлежит отнюдь не Эдуарду Мане, «гибкому и театральному». Главные перемены в манере и стиле произошли благодаря Камилю Писсарро, Дега, Ренуару, особенно Клоду Моне. «Они были главарями революции, он же (Э. Мане) был ее глашатаем».[111]
Эдуар Мане. Олимпия. 1863.
Камиль-Жакоб Писсарро (1830–1903) родился на Антильских островах (Сен-Тома). Возможно, романтическое место заставило сына торговца скобяными товарами обратить свой взор к живописи. Закончив коллеж, он до 1852 г. безропотно служил отцу на поприще торговли (занимаясь одновременно живописью). Затем взбунтовался и вместе с датским художником Ф. Мельби уехал в Венесуэлу (вспомним, что и Мане «сбежал» в Бразилию). Там он рисует пальмы, дома, горы, матросов, негров, женщин. Говорят, что его устремления были несколько иными, чем у Гогена, сбежавшего из Парижа на острова Полинезии. Мы же подчеркнем, что нельзя недооценивать того влияния, которое окажут на многих мастеров нового жанра буйство цветов и красок экзотических стран… По возвращении художник некоторое время учился в Школе изящных искусств, хотя и был несколько разочарован академическими методами преподавания. В 1859 г. он впервые послал в Салон свою картину. Его учителями можно считать Коро, Курбе, Мане.
К тому времени он перебрался во Францию (Париж, затем Понтуаз). Жизнь была трудной. Женитьба на простой крестьянской девушке (горничной) поссорила его с отцом. Папаша-буржуа вознегодовал по поводу «неравного брака» и лишил сына ежемесячного пансиона. Живопись стала единственным пристанищем. Писсарро знакомится с Ренуаром и Сислеем, оказывается в Лондоне вместе с К. Моне, где изучает Тернера (позже он посоветует сыну «учиться, глядя на картины Тернера»), дружит с Сезанном.
Мы видим, что искусство импрессионистов, и в первую очередь их «вождей», вовсе не являлось сугубо замкнутым, так сказать чисто французским. Критики резонно отмечают: «Если свести воедино всех тех, у кого учился Писсарро – это немецкие пейзажисты дюссельдорфской школы, фрацузские барбизонцы, Коро и Курбе, английские пейзажисты, – и прибавить сюда те черты голландского влияния, которые Клод Моне наследовал от Йонкинда, то придется признать, что двое главных зачинателей импрессионизма опирались на достижения всех ветвей европейской пейзажной живописи XIX века».
Писсарро можно назвать «певцом Парижа», как и Моне с Ренуаром. Их всех влечет не только пейзаж, но и рукотворная природа больших городов. Клод Моне пишет серию «Руанских соборов». Если для Моне пленэр был все же главным источником вдохновения, то Писсарро (особенно поздний) скорее был увлечен жизнью города, изображая уголки старого Руана («Руан. Мост Боэльдье»). Затем он пишет картины рынков, парков, садов, бульваров, площадей («Оперный проезд», «Сад Тюильри», «Вид Сены»). Постепенно Писсарро стал зарабатывать «немного больше, чем только на жизнь», но гораздо позже Дега, Моне и Ренуара (все эти трое станут богатыми и вполне обеспеченными).
Художник вошел в Клуб социального искусства (1889), где шли споры о необходимости создания искусства для народа, о том, что художник не должен уединяться в башне из слоновой кости… Взгляды участников этих собраний родственны взглядам членов кружка английского социалиста У. Морриса… Писсарро и Синьяк также считали, что художник обязан просвещать массы. Нам же кажутся столь же важными и человеческие качества художника. Это о них позже с восторгом и восхищением напишет Ж. Леконт («Основатель импрессионизма, Камиль Писсарро»): «Великий Писсарро был – и остался таким до конца – очень молод душой и умом и своей верой в будущее; он любил быть окруженным молодыми. Не принуждая себя к этому, он был снисходителен к промахам, ошибкам и преувеличениям молодежи… Проницательный и справедливый в оценке произведений искусства и людей и знающий, чего стоит творческое усилие, Камиль Писсарро был необыкновенно доброжелателен, особенно к молодым художникам… Никогда я не слышал, чтобы он смеялся над какой-нибудь неудавшейся попыткой; он никогда не говорил плохо о художнике в отсутствии его, он говорил о нем, только когда он был тут… Не поступаясь истиной, он старался похвалить за достоинства, чтобы придать мужества молодым творцам, подбодрить их. Чтобы помочь избавиться от недостатков и убедить в искренности своего суждения, он высказывал очень сдержанно и деликатно сомнение в том, что ему казалось ошибочным… В нем все было благородно – мысли, чувства, характер. Никогда он не произносил горьких слов или слов зависти и мелочной злобы. Несправедливое отношение, жертвой которого он долгое время был, только усиливало в нем стремление к справедливости. Бедняк, с трудом содержавший семью, он находил возможность делать добро – для него это было совершенно естественно – и помогать другим не только подбадривающим словом, но и делом. Несмотря на трудности, с которыми в течение сорока лет он боролся с помощью своей самой лучшей и самой мужественной из жен, этот философ-патриарх, мудрый, улыбающийся, был счастлив потому, что он мог свободно заниматься живописью – своей мечтой, и потому, что он спокойно жил, созерцая и изучая природу, источник великих радостей».[112]
Есть художники, которым достаточно видеть «источник великих радостей» в искусстве. Как правило, они стараются избегать света, шумных встреч, застолий, раутов, шумихи в прессе и даже в салонах. В их мировоззрении есть нечто от мысли Ф. Тютчева: «Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои». Таков Эдгар Дега (1834–1917), рожденный в семье парижского банкира. Трудно сказать, что сделало его столь замкнутым и отчужденным. Известно только, что он не писал статей и не вел дневник, как Делакруа, не знал долгих бесед с учениками, как Энгр, не выступал с декларациями и уж тем более не принимал участие в деятельности и борьбе Парижской Коммуны, как Курбе. Ему не посвящали исследований, не брали у него интервью. После Столетней выставки 1900 г. он вообще скрылся от глаз публики. Называть его «затворником» было бы неверно. В нем скорее жил скептик и философ, «индивидуалист и отщепенец». Он желал, подобно Растиньяку, покорить Париж и весь мир, живя в уединении и оставаясь забытым. Как он однажды признался: «Я хотел бы быть знаменитым и неизвестным». Думается, что эта позиция была обусловлена стремлением видеть и подмечать то, чего не видят другие.
Никто так не знал Парижа, как он, никто не владел линией столь совершенно, никто не мог схватить с такой точностью движения балерин. Как он достиг такого мастерства? Копируя старых мастеров (Веласкеса, Рубенса, Пуссена, Гирландайо, Гольбейна). Однако его истинным кумиром станет Энгр, «фанатик рисунка», о котором он же сам с восхищением скажет: «Вот художник, который мог бы посвятить всю свою жизнь тому только, чтобы нарисовать одну женскую руку!» Тот советовал ему «рисовать контуры». Даже в «Молодых спартанках, борющихся со спартанцами» (1860) виден облик девушек парижских кварталов. В 1862 г. Дега знакомится с Мане (они сошлись в Лувре у картины Веласкеса, где познакомились и подружились). В их стилях есть некая интимная теплота, как и между Дега, Мане и Ренуаром. Дега рисует «Нищенку», входит в группу «Независимых» или «отверженных», будучи художником абсолютно современным.
К. Писсаро. Площадь Французского театра в Париже. 1898.
Оставив университет и выдержав битву с отцом, он весь отдался живописи улиц и характеров… Принятая им личная программа (1859) звучала так: «Претворять академические штудии в этюды, запечатлевающие современные чувства. Рисовать любые предметы обихода, находящиеся в употреблении, неразрывно связанные с жизнью современных людей, мужчин или женщин: например, только что снятые корсеты, еще сохраняющие форму тела, и т. д.». В его списке – булочные, дымы, вуали, похороны, музыканты, балерины, ночные кафе… Да, это была настоящая, подлинная, повседневная жизнь города, в котором «сходятся почти все стороны цивилизации» (П. Валери). Гонкуры отмечают как характерную черту Дега то, что, рисуя картины современности, он остановил свой выбор на прачках и танцовщицах. Танцовщицы и прачки порой интереснее иных лордов, министров или парламентариев. Гонкур пишет: «Своеобразный тип этот Дега – болезненный, невротический, с воспалением глаз столь сильным, что он опасается потерять зрение, но именно благодаря этому – человек в высшей степени чувствительный, улавливающий самую сокровенную суть вещей. Я не встречал еще художника, который, воспроизводя современную жизнь, лучше схватывал бы ее дух».[113]
То, что он сделал, было подлинной революцией в живописи. Дега в корне менял перспективу. Справедливы слова Ренуара, характеризующие творчество этого художника: «Дега был… прозорлив. Возможно, что он держался дикобразом, чтобы спрятать свою подлинную доброту. Не скрывался ли за черным сюртуком, твердым крахмальным воротничком и цилиндром самый революционный художник во всей новой живописи?»[114]