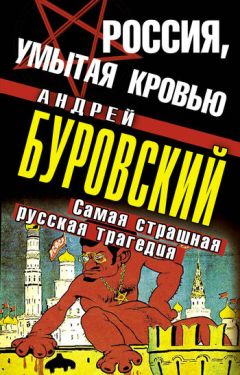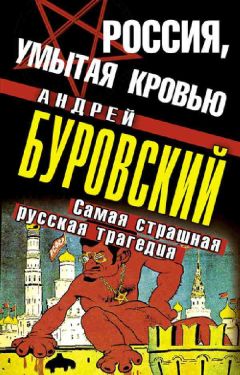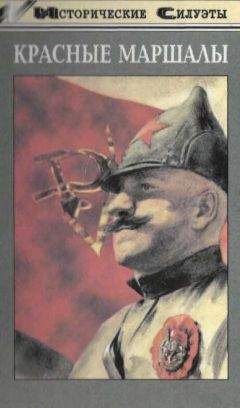Первые два привлекались за то, что работали с большевиками, третий за занятие должности комиссара.
Для заседаний суду отвели залу в клубе комиссионеров. Благодаря этому публика у нас не переводилась.
Велико было ее изумление, когда я потребовал для Предтеченского низшую меру наказания, положенного донским законом за большевизм. Суд назначил ему год заключения в крепости. Через некоторое время атаман избавил его и от этого наказания.
Верченко я обвинял для проформы. Его приговорили к четырем месяцам крепости; по зачете же предварительного заключения, он очень скоро вернулся к своей семье.
Ивана Польского, славного крестьянского парнишку, о котором на суде дал очень симпатичный отзыв профессор Ростовского университета В. В. Курилов, я не обвинял, а защищал.
Бывший комиссар пошел прямо из суда домой. Публика ничего понять не могла. — В чем дело? Что это за суд?
Лучшие местные адвокаты, выступавшие моими противниками, И. И. Шик, М.Б. Смирнов, Н.М. Лезгинцев, объясняли, как могли, что это «нормальный» военный суд, а не чрезвычайный, каким является военно-полевой.
Военная цензура пыталась воспрепятствовать опубликованию в газетах отчетов о нашем суде. Репортеры обратились ко мне, Я отправился к главному цензору и убедил его ссылкой на закон, что наш суд гласный и что только по делам, которые разбираются при закрытых дверях, ничего нельзя печатать без разрешения председателя. Цензор, бывший жандармский офицер, извинился, заявив, что он привык к порядку, установленному для военно-полевых судов.
С той поры судебные репортеры стали с нетерпением ждать нашего появления в Ростове.
Несколько позже наш временный военный суд разобрал несколько уголовных дел, в том числе прискорбное дело об убийстве декана физико-математического факультета Ростовского (б. Варшавского) университета профессора Андрея Робертовича Колли и об убийстве же начальника ростовской городской милиции меньшевика Калмыкова.
Последнего прикончила толпа лиц с темным прошлым 11 февраля 1918 года, когда Ростов впервые занимали красные войска. Новая власть разыскала часть убийц и покарала их. По водворении белых, сыщики выискали еще шестерых. Наш суд всех их оправдал, хотя против некоторых существовали серьезные улики. Мне пришлось подать кассационный протест в сенат.
В тот же памятный для Ростова день погиб профессор Колли, выдающийся физик-эксперименталист, человек далеко еще не старый, но уже считавшийся европейским ученым. Его погубили университетские служителя, сводя счеты за то, что он летом 1917 года провалил их забастовку на экономической почве. Когда в городе воцарилась анархия, обычная в моменты перехода власти из одних рук в другие, несколько служителей привели на квартиру Колли (на Пушкинской улице) озверелую уличную толпу, искавшую контр-революционеров.
— Вот буржуй! Вот кадет! Вот контр-революционер!
Для большей убедительности провокаторы подбросили под кровать жандармский мундир.
Одного служителя, Ивана Уставщикова, наш суд приговорил к двадцати годам каторжных работ. Двое других, Дробышев и Бобко, бежали в Красную армию.
Но и они не избегли должного возмездия.
В то время, как за границей клеймили Советскую власть за то, что она уничтожает таких жрецов науки, как проф. Колли, Ростовский военный трибунал произнес свой приговор над недосуженными белым судом виновниками смерти этого ученого. Сетования Европы оказались напрасными. Уголовщина везде остается уголовщиной. Убийц Калмыкова начала карать Советская власть и закончила власть белая. С наказанием убийц проф. Колли вышло наоборот.
В мае нынешнего 1925 года, посетив Москву для научной работы в архивах, я остановился, по указанию ЦЕКУБУ,[45] в общежитии,[46] где доживают свой век несколько вдов тружеников науки. Среди них я встретил цветущую, — насколько вообще может цвести 70-летний человек, — высокоинтеллигентную женщину. Это была М. В. Колли, мать убитого в Ростове профессора физики.
Мы с ней разговорились.
Мучительная скорбь съедала ее сердце.
И только внимание Советской власти спасало ее от конечного отчаяния.
Петр Леонтьевич Макаренко, председатель кубанской делегации, посетивший Дон с целью ознакомления с донскими порядками, пришел от них в неописуемый восторг.
29 ноября, докладывая Раде о результатах своей поездки, он заявил:
— Мы увидели на Дону мощь, и в этой мощи отражалось былое величие России.
Макаренко присутствовал в Новочеркасске при встрече союзников. Блистательные торжества, устроенные опытной рукой близкого ко двору генерала, ослепили доморощенного степного политика.
Более вдумчивые наблюдатели могли бы безошибочно сказать:
— Мы увидели на Дону гниль, прикрытую позолотой точь-в-точь как было в последние дни самодержавия на Руси.
Газета «Донская Речь», орган донской либеральной буржуазии, дала такую оценку правительственной деятельности «атамана военного времени»:[47]
«Красновский режим внес разложение в нравы правящих сфер. В ведомствах не чувствовалось никакой согласованности. Каждый молодец действовал на свой образец, каждый заискивал перед атаманом, старался выговорить себе исключительное расположение правителя и стремился делать лишь свои и своего ведомства дела и делишки, совершенно не считаясь с тем, что находилось за пределами его ведомства. Каждый министр не чувствовал ответственности за свои действия: все прикрывались авторитетом атамана. Смены управляющих ведомствами не носили программного характера; менялись лица не потому, что менялась система или программа, а потому, что таковы были капризы правителя «Донской республики».
Эта оценка хотя и правильная, но недостаточная.
Не в том вся беда, что Краснов на своих министров смотрел как на пешек. Большее зло заключалось в том, что, осуществляя в полной мере самодержавную власть, он в сфере правительственной деятельности опирался по преимуществу на высший класс, на местную знать, гвардейское офицерство, то-есть на наиболее разложившиеся обломки старого строя. Его сподвижники, большей частью представители лучших донских фамилий, совершенно не годились для той серьезной работы, которую атаман возложил им на плечи.
Сам Краснов, талантливый и трудолюбивый, во много раз превосходил всех своих сподвижников, вместе взятых гвардейского офицера Г. П. Янова, «Жоржа» по имени и «Жоржика» по психологии, он назначил управлять внутренними делами. Министр (одно время даже председатель Круга) в «Ростове», в одной из лучших гостиниц, перепился и устроил такой дебош, что Краснову волей-неволей пришлось его уволить.
Другие министры — если не пили, то лодырничали; если не лодырничали, то занимались спекуляциями.
Разные дамы, донская знать, через посредство своей родни и друзей, донских министров, самым беззастенчивым образом устраивали темные дела, разумеется, не бесплатно. Я знал семью генеральши Р., где собирался новочеркасский бомонд и правящие круги. В салоне видную роль играла дочь г. Р., сенаторша Э., не жившая со своим мужем, престарелым царским сановником. Эта дама спекулировала решительно всем, вплоть до своих связей со сферами, и жила, благодаря этому, по-княжески. Я был на ее именинах. В то время, как честный служака, даже в генеральском чине, еле-еле мог прокормиться на свое жалованье, у соломенной сенаторши одного шампанского за ужином было выпито полторы дюжины.
Все знали источники средств. Но никому не приходило в голову считать их предосудительными. Ведь это была дама своего круга, и большинство краснов-ских администраторов, сознательно или несознательно, помогали ей обделывать дела.
С течением времени ее фамилия начала фигурировать в следственных делах. Но она до конца красновского владычества вращалась в сферах.
Зная, что внутри его государства много гнили, Краснов старался блеснуть хотя бы наружной позолотой. Сам многое делал только для виду и не мешал другим делать только напоказ.
Новочеркасск был парадной залой донского государства, и по внешнему виду здесь все обстояло благополучно. Но если в Ростове, в самом культурном городе Дона, какой-нибудь градоначальник Греков и дикарь Икаев безобразничали так, как не снилось гоголевскому городничему, то можно предполагать, что творилось вдали от стольного города. В Александровске-Грушевске, например, вблизи от Новочеркасска, начальник гарнизона ген. Золотарев, донской казак из корейцев (!), сейчас же после падения Краснова попал под следствие за систематические грабежи торговцев.
В самой основе красновской государственной деятельности коренилась великая ложь.
Казалось просто непонятным, как он и многие его сподвижники, прожившие большую часть жизни вне Дона, а иные и вовсе там не бывавшие, вдруг после Октябрьского переворота заболели казакоманией.