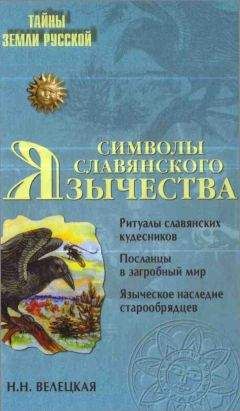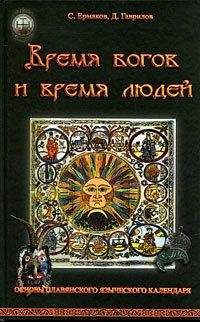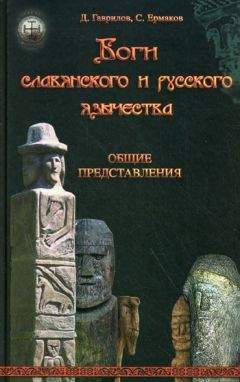Здесь мы видим некоторый диссонанс с традиционной похоронной обрядностью, в которой поминки происходят после похорон при участии хоронивших покойника. Что касается переодевания в женское платье одного из мужиков, составляющих «свиту», это может быть и рудиментом этапа трансформации ритуала проводов на «тот свет», имевшего место в прошлом, — перевода односельчан, достигших возрастного предела, в разряд, которому предстоит доживать жизнь на женской половине или в отдельном домике (чешск. «vym nar»). Оно может быть и следствием смещения знакового выражения сущности ритуала с основного объекта действий на отправителей ритуальных действ — явление, характерное для трансформированных языческих ритуальных действ на всем протяжении истории традиции христианской эпохи. Последнее тем более вероятно, что это лицо выступает в качестве центрального персонажа на «поминках». Смещения и синтез рудиментов языческих образов и ритуальных действ — типологическое явление истории народной традиции.
Изложенные факты несут в себе дополнительные свидетельства в пользу положения о генезисе ряжения «умруном» как пережиточной формы ритуала проводов на «тот свет», некоторые элементы которого (маска, салазки и др.) представляются чуть ли не более архаическими, чем самые архаические элементы похоронных игр.
Сопоставление поздних вариантов игрищ с мотивами смерти и архаических обрядов дает весьма показательную картину трансформации символики вследствие утраты ритуальной сущности действа. Если в архаических вариантах ряжения «умруном» оформление костюма его строится таким образом, чтобы была ясна ритуальная сущность персонажа посредством оформления деталей, подчеркивающих, что образ ряженого представляет собой не мертвеца, а живого человека, передвигающегося на собственных ногах, то в поздних вариантах появляется гроб как элемент реквизита. В этих вариантах на посиделки вносят «покойника», лежащего в гробу{219}. Здесь наблюдается картина, аналогичная действам с похоронными мотивами в другие календарные сезоны, например, «похоронам Костромы», «похоронам кукушки» и т. п., где кукла и чучело в поздних драматизированно-игровых вариантах трансформированного языческого действа также укладывались в гроб. В качестве характерного образца такого явления можно привести «похороны кукушки» начала XX века из средней полосы России: «кукушки» — антропоморфные куклы в стилизованном крестьянском наряде, положенные в гробики{220}.
Существенное значение для понимания генетической сущности игрищ в «смерть» имеет рассмотрение финальных действ. Особенно важна вариативность их на протяжении времени. Еще в середине XIX века «умруна» не уносили из избы «хоронить», как это делали в конце XIX века, а, вынув половицу, опускали в подполье{221}. Эта форма вызывает ассоциации с мотивом преданий о прекращении умерщвления стариков — об укрытии старого отца в подполье{222}.
Святочные игры с мотивами смерти не всегда можно с уверенностью интерпретировать в силу архаичности их основы и длительной трансформации в традиции. Недаром загадочность «умруна» неизменно отмечается исследователями{223}. Существенна для понимания общего характера их поздняя форма, зафиксированная у северных великорусов{224}, которая состоит преимущественно в «отпевании» принесенного на беседу «мертвеца». Образ его оформлялся главным образом вымазыванием белым. Финал ее — пляска «мертвеца» — имеет аналогии как в драматической, так и в устно-поэтической традиции.
В еще более осложненной переосмыслениями и драматизацией форме этот мотив проявляется в народной драме «Маврух», разыгрывавшейся также на Святках на Русском Севере. В ней фарсовые действа с отпеванием «мертвеца» и другими формами пародирования похоронных действ заканчиваются недвусмысленными знаками земной жизни действующего лица, как бы простившегося перед этим с ней навсегда{225}. В устно-поэтической традиции аналогичный мотив нашел выражение в поговорках и загадках: «Чудак покойник: умер во вторник; стали гроб тесать, а он вскочил да и ну плясать». «Чудак покойник: умер во вторник, в среду хоронить, а он поехал боронить»{226}. Загадка «Покойник, покойник, умер во вторник, пришел поп кадить, а он в окошко глядит», опубликованная в сборнике «Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII–XX веков», с разгадкой «хлебное зерно, яровое и озимь»{227} также представляется отголоском рассматриваемого мотива; разгадка же, приведенная в указанном сборнике, по всей видимости, — позднейшее осмысление вследствие забвения самого ритуала проводов на «тот свет» и отхода от него, когда обычай как ритуальное явление стерся в памяти, осталось же лишь смутное представление о прошлой связи с аграрными культами. Положение подтверждается видимой трансформацией этой пословицы-загадки в фольклорной традиции: в сборнике В. И. Даля — самом полном, достоверном и ценном источнике изучения русских пословиц и поговорок она с небольшой вариативностью опубликована в качестве пословицы{228}. Все изложенное говорит о том, что финальная пляска «мертвеца» в рассматриваемом варианте святочного игрища может быть и результатом смещения порядка языческих ритуальных действ при проводах на «тот свет», и символическим выражением перехода от умерщвления к знаковым формам выражения отхода от этой языческой формы обычая. Это подобно прыжку через купальский костер{229} или же статуэтке из сухих фруктов на сочельническом столе{230}, чрезвычайно ярко и образно выражающей торжество остающегося в своем доме вместо «ухода» из него навсегда.
Сущность святочных игрищ «в смерть» как рудиментарных форм языческого ритуала проводов на «тот свет» подтверждается эпилогом их, завершающим святочные игрища. «В последний день Святок справляли похоронный обряд. Делали чучело из соломы и тряпок, покрывали его платками и, как покойника, провожали за деревню; причитали каждый по-своему, кто вопил по брате, кто по матери… доходили до конца деревни, чучело бросали, а платки разбирали их собственницы. Возвращаясь, устраивали вроде поминок, пекли в складчину блины и пр. В очень немногих местах удержались эти обряды»{231}. Эти действия с чучелом принципиально аналогичны действиям с чучелом, заключающим масленичные игрища, а также и действам вокруг чучела на Кузьминки, в троицко-семицких ритуалах и в других календарных действах{232}.
Следует отметить еще одно существенное обстоятельство. Игрища в «умруна», в «мертвеца», «в смерть» и т. п. в архаических формах их известны по преимуществу из тех же местностей, где пережиточные формы ритуала отправления на «тот свет» удерживались еще в XIX веке — в Новгородской и Вологодской губерниях, на Ветлуге, в Заволжье и Поволжье и некоторых других. Также и наиболее архаичные формы похоронных игр известны в местностях, в которых зафиксировано бытование обычая отправления стариков на «тот свет» — в Подолии, в Буковине, в Закарпатье. Обстоятельство это — еще одно свидетельство того, что и святочные игрища с мотивами смерти, и похоронные игры восходят к одному источнику. И в этом смысле особенно важны данные из Подолии: она давно известна как резервация славянских древностей, и в ней зафиксированы и рудименты ритуала проводов на «тот свет», и архаические варианты игрищ с мотивами смерти, и похоронных игр.
Дополнительным аргументом в пользу высказанного положения может служить сопоставление локальных названий игрищ с мертвецкими мотивами, смерти и покойников.
Игрища: в «умруна», в «умрана», «в смерть».
Смерть — «выход».
Комашня — «умерліни».
Могила — «ухаб».
Покойник — «смертельник», «умирашка», «умран», «умрун»{233}.
Последнее из них особенно показательно как архаическая форма наименования и покойника, и игрища, сохранившая в своем построении сущность обозначаемого предмета («предназначенный к смерти»), восходящего к явлению, пережиточные формы которого зафиксированы в том же самом регионе{234}.
Для понимания сущности языческой символики образа ряженого «умруном» в соотношении с другими образами новогоднего ряжения существенно соображение В. И. Чичерова: «Включение покойника в святочный обряд может быть сопоставлено с распространенным поверьем о господстве в новогодние дни „неведомой и нечистой силы“, которая в страшные вечера получает особую власть и выискивает всякие способы для причинения зла человеку и ущерба его хозяйству.
В соответствии с этими поверьями в деревне… широко использовались образы не только мертвецов, но и привидений, чертей, кикимор и проч. Достаточно хорошо известно, например, одевание ряженым „страшной маски“ и длинной белой, с длинными рукавами рубахи»{235}. Языческая символика этого образа становится ясной после рассмотрения игрищ «всмерть» — в «умруна».