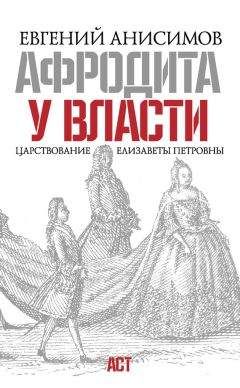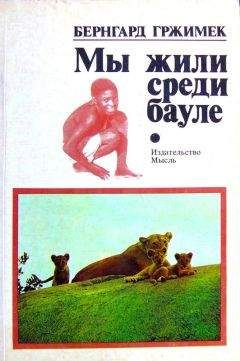Ознакомительная версия.
Наверняка Бирон знал, что в гвардии были случаи отказа гвардейских солдат и офицеров от присяги в верности Акту о регентстве. Следствие показало, что и здесь причиной неповиновения было недовольство регентством Бирона и сочувствие родителям императора [199]. Особо примечательно упоминавшееся выше дело подполковника Пустошкина, который уже 6 октября, когда был объявлен манифест Анны Иоанновны о престолонаследии, проникся идеей подать от всего российского шляхетства челобитную с просьбой сделать регентом принца Антона-Ульриха. 22 октября, то есть уже после провозглашения Бирона регентом, Пустошкин явился к канцлеру России князю А.М. Черкасскому и заявил, что «их много, между ними офицеры Семеновского полка… все желают, чтобы правительство было поручено принцу Брауншвейгскому». Пустошкинбыл арестован и, как уже сказано, допрошен самим регентом [200]. Важно то, что Пустошкин с товарищами направились к Черкасскому, «напомнив о прежнем подвиге его, столь достохвальном и полезном для общества», и «просили князя отправиться с ними к принцессе и представить Ее высочеству о желании народа». Речь идет о памятном событии начала 1730 года, когда князь Черкасский возглавил выступление русского дворянства против узурпировавших власть верховников — членов олигархического Верховного тайного совета [201]. Но в 1730 году ситуация была уже другая, да и Черкасский тогда был другим. А в 1740 году он тотчас, ничтоже сумняшеся, донес о депутации Пустошкина Бирону. Здесь важно то, что недовольство в обществе стало отливаться в привычные для общественного движения той поры формы депутаций, коллективных обращений, что само по себе говорило о потенциальной их силе и несомненной опасности для каждого узурпатора.
Почему регент все-таки не обратил серьезного внимания на все эти факты и предостережения? Может быть, потому, что в деле Пустошкина упоминались семеновцы, да среди отказавшихся от присяги также было больше всего семеновцев — напомню, что принц Антон-Ульрих был командиром Семеновского полка. Поэтому все эти выступления могли расцениваться Бироном и его клевретами не как отражение опасных для «хунты» общественных настроений, а как корпоративная солидарность подчиненных со своим несправедливо обиженным командиром. К тому же Бирон рассчитывал на верность Измайловского и Конного полков, сформированных в царствование Анны Иоанновны и не имевших тех опасных для него преторианских традиций, какими славилась старая петровская гвардия — два первых полка, Преображенский и Семеновский.
Заметно, что Бирон опасался делать резкие движения и задевать гвардию. В перспективе он хотел обновить старую гвардию за счет увольнения из ее рядов петровских ветеранов, которых действительно остерегался. Опасения эти отражены в его записках. В них рассказывается, как Антон-Ульрих говорил Бирону, что тот «прекрасно бы сделал, если б уволил старых гвардейских солдат и офицеров, служивших еще великому Петру. Я отвечал, что сделать это вовсе нелегко и такое увольнение будет соединено с риском еще более увеличить опасность, потому, что Его высочеству должно быть известно впечатление, оставленное Петром (Великим) не только в умах, но и в сердцах всех его подданных» [202]. Мы не знаем, как справился бы Бирон с решением проблемы гвардии, если бы дольше продержался у власти, но пока он явно осторожничал.
После расправы с Антоном-Ульрихом регент вновь, уже после присяги, припугнул и Анну Леопольдовну, пообещав выписать из Киля «чертушку» — сына Анны Петровны Карла Петера Ульриха. Тем самым Бирон намекал, что может и выслать Брауншвейгское семейство в Германию — так сказать, к разбитому корыту. На допросах 1741 года эта тема всплывала дважды; на одном из них Бирон винился (на следствии с ним подобное — редчайший случай), говорил, что произносил это «яко безумный, который разума своего лишился» [203], а на другом отрицал подобные угрозы со своей стороны, но признавался, что о голштинском сопернике с принцессой и принцем говорил — в том смысле, что им всем нужно держать ухо востро из-за возможных происков французской дипломатии в пользу внука Петра Великого. Тогда стало известно, что при дворе Елизаветы Петровны вдруг обнаружился портрет юного Карла Петера Ульриха. Думаю, что Голштинский герцог был в равной степени неприятен и опасен и Брауншвейгской фамилии, и Бирону-регенту. Что же касается до осуществления угроз «выписать чертушку», то это было нереально — ведь будущее Бирона как регента было связано прежде всего с Брауншвейгской фамилией, и он оставался регентом до тех пор, пока на престоле был император Иоанн III, а не Петр III. Собственно, потом, на допросе, он резонно указывал следователям на нелепость таких угроз: все знают, как он старался возвести на трон именно Ивана Антоновича, и эти его усилия с намерением пригласить Голштинского принца «весьма не согласуются» [204]. Впрочем, принцесса могла и всерьез испугаться: после того как Бирон сумел добиться регентства при Иване III, у него хватило бы наглости стать регентом и при Петре III.
Бирон не упускал из виду и другую возможную претендентку на престол из династической ветви потомков Петра Великого: в те же дни он встречался с цесаревной Елизаветой Петровной. Как утверждает Манштейн, регент «имел с царевной Елизаветой частые совещания, продолжавшиеся по нескольку часов». Он заплатил ее долги и обещал ей хорошее содержание. Лучшего для этой вечно нуждавшейся в деньгах мотовки нельзя было и придумать — так Бирон мог не просто нейтрализовать ее амбиции, но привлечь на свою сторону, а может быть — чем черт не шутит! — и выдать ее замуж за своего сына Петра [205]. По-видимому, регент хотел убедиться в намерениях и настроениях дочери Петра Великого и обращался с ней вполне мирно и доброжелательно. Как известно, Елизавета была по натуре злопамятна, но, став императрицей, зла на регента не держала. И это не случайно. В августе 1741 года Шетарди через Лестока узнал, что оказывается, когда Бирон стал регентом, то он, «не совещаясь даже с ней, прислал ей от себя через доверенное лицо двадцать тысяч рублей несколько дней спустя по кончине царицы, и она чувствует за это такую признательность, что почтет себя обязанной возвратить ему свободу, как только в состоянии будет это сделать». Ну, дать Бирону свободу Елизавета, став государыней, все-таки не решилась, но Бирона при ней перевели из холодной Сибири в Ярославль, где бывший регент жил в довольно комфортабельных, в сравнении с отправленными в Сибирь Остерманом, Минихом и Левенвольде, условиях.
В эти дни перед нами на мгновение появляется и сам двухмесячный государь, император Иван Антонович. В субботу 18 октября 1740 года Финч отправился поутру в Летний дворец с поздравлениями Бирона-регента и тут, пишет английский дипломат, «по дороге я встретил юного государя, которого перевозили из Летнего дворца в Зимний (по указу Бирона; сам регент остался в Летнем до выздоровления опасно заболевшего старшего сына Петра. — Е.А. ). Его величество сопровождал отряд гвардии, впереди ехал обер-гофмаршал и другой высший чин двора, камергеры шли пешком. Сам государь в карете лежал на коленях кормилицы, его сопровождала мать, принцесса Анна. За их каретой ехало еще несколько, образуя поезд. Я немедленно остановил свой экипаж и вышел из него, дабы поклониться Его величеству и Ее высочеству» [206].
Одним словом, регент, несмотря на печаль по своей покойной благодетельнице (она еще не была похоронена и гроб с ее телом стоял в Летнем дворце, открытом по традиции для прощания петербуржцев), был активен, и все у него, казалось, шло как нельзя лучше.
Так прошел октябрь и начало ноября 1740 года. А в ночь с 8 на 9 ноября на Бирона внезапно обрушился смертельный удар — заговорщики во главе с фельдмаршалом Минихом совершили очередной петербургский дворцовый переворот и низложили регента. Фельдмаршал проявил в организации заговора и переворота ум, расчетливость, решительность и быстроту. И заговор, и переворот произошли, в сущности, за несколько часов. Миних сумел найти общий язык с Анной Леопольдовной, которой ранее, при установлении регентства, сторонился. Задумав свергнуть регента, он стал чаще видаться с принцессой, благо сам Бирон поручал ему вести дела, связанные с Брауншвейгским семейством. Вероятно, после всего, что сделал с ней Бирон, Анна Леопольдовна не могла испытывать к нему ни чувства благодарности, ни теплоты. В целом столкновение между Анной Леопольдовной и Бироном должно было произойти рано или поздно, хотя они соблюдали все правила придворного этикета, наносили друг другу визиты и говорили вежливые слова, но при этом, как писал 1 ноября 1740 года Финч, несмотря на величайшую мягкость и уважение, проявляемые публично регентом в отношении Анны, они оставались врагами: «Герцог всегда видел в принцессе смертельного врага и чувствует, что присвоение регентства в ущерб ей, особенно по устранении ее от самого престола, она ему никогда не простит» [207]. Так это, вероятно, и было. Миних это обстоятельство хорошо понял и использовал в своих целях.
Ознакомительная версия.