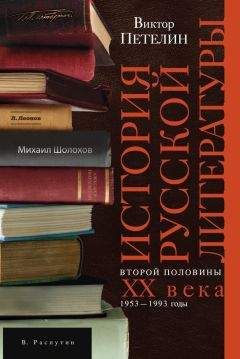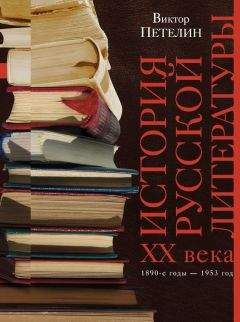Ознакомительная версия.
На Западе опубликовали роман «Август Четырнадцатого», Солженицын усиленно работал над его продолжением «Октябрь 1916», а затем «Февраль Семнадцатого», то и дело о Солженицыне публиковались статьи, интервью с ним в западной прессе, а в советской печати шла буйная клеветническая кампания – то в «Правде», то в «Известиях», то в «Литературной газете». По материалам средств массовой информации, а главное – по запискам председателя Комитета государственной безопасности Андропова А.И. Солженицын предстаёт как «политический противник советского государственного и общественного строя» (Там же. С. 198), как проповедник антикоммунизма и капиталистического строя. В связи с этим 27 марта 1972 года Андропов и Руденко предлагают привлечь А. Солженицына к уголовной ответственности и выслать за пределы Советского государства. На заседании Политбюро ЦК КПСС 30 марта 1972 года, заслушав информацию Ю.В. Андропова, было принято решение вплотную заняться судьбой А.И. Солженицына. На последующих заседаниях Политбюро пришли к единому мнению, что А. Солженицын «всё более нагло ведёт себя, пишет всюду клеветнические письма, выступает на пресс-конференциях. Он очень озлоблен. Надо принять в отношении его решительные меры». Брежнева поддержал А. Косыгин, а Ю. Андропов предложил лишить писателя советского гражданства. Так началась процедура принятия этого решения.
А пока всё это готовилось, А.И. Солженицын написал «Письмо вождям Советского Союза», направленное 5 сентября 1973 года лично Л.И. Брежневу, в котором предупреждал его, что они могут встретиться и поговорить о том, что он написал: «Вы, как простой русский человек с большим здравым смыслом, вполне можете мои доводы принять, а уж тогда тем более будет в Вашей власти их осуществить (Там же. С. 256). А. Солженицын обращается к власти, как «редкий соотечественник, который не стоит на подчинённой вам лестнице, не зависит от вас по службе, не может быть вами ни уволен с поста, ни повышен, ни понижен, ни награждён», не можете принуждать к отречению, но он хочет сказать главное: что он считает «спасением и добром для нашего русского народа»: «Эти опасности: война с Китаем и общая с западной цивилизацией гибель в тесноте и смраде изгаженной Земли» (Там же. С. 257). Во внешней политике необходимо «последовательно проводить в жизнь национальный эгоизм»; необходимо отказаться от марксизма-ленинизма («Сталин от первых же дней войны не понадеялся на гниловатую порченую подкорку идеологии, а разумно отбросил её, почти перестал её поминать, развернул же старое русское знамя, отчасти даже православную хоругвь – и победил!» (Там же. С. 263); «не испортить русской природы, не создавать противочеловеческих многомиллионных скоплений» («Мы же сделали всё наоборот: измерзопакостили широкие русские пространства и обезобразили сердце России, дорогую нашу Москву, – какая нерусская рука разорвала бульвары, так что нельзя уже ими пройти, не ныряя в унизительные каменные тоннели…» (Там же. С. 267). А. Солженицын предлагает многое изменить во внутреннем положении страны, подумать о юношестве, о женщинах, о власти. Не всё, конечно, можно было принимать из его высказываний, но пригласить его на разговор, как это предлагал Н. Щёлоков, было совершенно необходимо. Но этого не произошло. И в этом – трагедия личности А. Солженицына и трагедия личности Л. Брежнева и всего его окружения, так и не нашедших общего языка. 7 января 1974 года на заседании Политбюро Л. Брежнев сообщил, что за границей вышел «Архипелаг ГУЛАГ»– «это грубый антисоветский пасквиль», «по нашим законам мы имеем все основания посадить Солженицына в тюрьму, ибо он посягнул на самое святое – на Ленина, на наш советский строй, на Советскую власть, на всё, что дорого нам» (Там же. С. 352). Почти все члены Политбюро приходят к выводу, что Солженицын – враг и необходимо принять против него соответствующие решения. 16 января 1974 года «Правда» напечатала статью И. Соловьёва о Солженицыне «Путь предательства», после этого вышли и другие статьи, похожие на правдинскую. Но это ничуть не помогло урегулировать сложные вопросы.
В феврале 1974 года А.И. Солженицын был лишён советского гражданства и выдворен из СССР. Вслед за ним выехала к мужу Н. Солженицына с детьми.
О личности и творчестве А.И. Солженицына написано много статей и воспоминаний. Владимир Максимов до поры до времени писал, что откровенный разговор о Солженицыне неуместен, потому что затрагивал бы не только эстетические вопросы, но и идеологические. А эти вопросы ещё не до конца решены в русской литературе. Но возникал и другой вопрос: А. Солженицын как бы существовал вне критики, того взыскующего разговора, который бы ставил его на соответствующее место в литературе.
«И в эмиграции, и в метрополии, – писал В. Максимов, – сложилось достаточно устойчивое убеждение, причём не только у людей пишущих, но и у многих читателей, что Солженицын-прозаик и Солженицын-публицист – это два совершенно разных явления. Я же считаю, что Солженицын равен себе в обеих этих ипостасях, со всеми вытекающими отсюда потерями и приобретениями. К публицистическим приобретениям, например, я отнёс бы «Письмо вождям», «Гарвардскую речь» и «Наших плюралистов», а к досадным потерям – «Как нам обустроить Россию»… То же самое и с прозой. Подлинно гениальные «Матрёнин двор» и «Архипелаг ГУЛАГ» мирно соседствуют у Солженицына с весьма скромным по своим литературным достоинствам «Августом 14-го» и основательными, но без подлинного размаха «Раковым корпусом» и «Лениным в Цюрихе». Что же касается «Красного колеса», то это не просто очередная неудача. Это неудача сокрушительная. Тут за что ни возьмись, всё плохо. Историческая концепция выстроена задним умом, а в этом, как известно, мы все в высшей степени крепки. Герои, почти на подбор, функциональны, вместо полнокровных живых характеров – ходячие концепции. Любовные сцены – хоть святых выноси. Создаётся впечатление, что об этой материи вообще автор – отец троих детей – наслышан из литературных источников, причём не самого лучшего пошиба. Язык архаичен почти до анекдотичности. К тому же сочетание этого умопомрачительного воляпюка с псевдомодернистской стилистикой «а ля Дос Пасос» (вспомните хотя бы наивно многозначительные «наплывы»!) порождают такую словесную мешанину, переварить которую едва ли в состоянии даже самая всеядная читательская аудитория.
Вообще безусловный минус Солженицына, как, впрочем, многих прозаиков (в отличие от большинства беллетристов), отсутствие достаточно объёмного воображения. Он беспредельно силён лишь в материале, который пропустил через себя, через свой эмпирический опыт. Свидетельство тому те же «Иван Денисович», «Матрёнин двор» и «Архипелаг ГУЛаг». Я убеждён, что у него получилась бы неповторимая эпопея о Второй мировой войне, но, увы, его привлекла другая, к сожалению, мало подвластная ему тема.
И ещё – о языке. Язык, по моему глубокому убеждению, – естественно складывающийся организм. Радикальное насилие над языком не менее бессмысленно и трагично, чем насилие над человеческим обществом, над самой жизнью. А жизнь, как мудро заметил Борис Пастернак в своём восхитительном «Докторе Живаго», не надо переделывать, она сама себя переделывает. Так обстоит дело и с языком. Оставить после себя хотя бы одно новое слово, как это получилось у великого Достоевского со «стушевался» или у посредственного Боборыкина с «интеллигенцией», это уже означает остаться в истории литературы, а конструировать почти всю словесную ткань своих книг из вымерших архаизмов и неподъёмных словосочетаний – это вернейший способ авторских самопохорон по первому разряду. Если уж освобождаться от советского «новояза», то, по-моему, всё-таки не по словарю Даля, а по «Сказке о царе Салтане» или по меньшей мере по чеховской «Каштанке». Ко всему прочему, насилие над языком мстит за себя самым грозным для пишущего образом – забвением.
При всех своих новаторских претензиях Солженицын так и не выломился из русской литературной традиции и не породил сколько-нибудь заметных эпигонов, ибо для эпигонства он явно малопригоден: слишком огромны художнические задачи, которые ставит перед собой.
Его роль в нашей литературе и бытии иная: он задаёт обществу, нам всем неизмеримо более высокие нравственные и творческие критерии, чем те, из каких мы исходили до него. И только одно это искупает все его промахи и потери.
Без него немыслимо, к примеру, было бы такое явление, как «деревенская проза». Все наши деревенщики вышли из «Матрёниного двора», как послепушкинская проза из гоголевской «Шинели», но всё же их едва ли можно назвать его эпигонами, настолько они самобытны, подлинны во всех своих проявлениях, художническом, нравственном и гражданском. И конечно же в языковом. Вот уж кто действительно не нуждается в помощи Даля, слова диктует им сама окружающая их языковая стихия.
Ознакомительная версия.