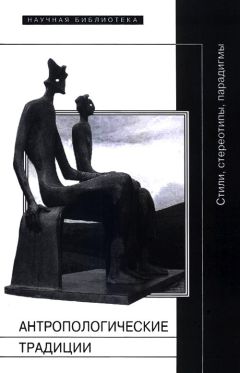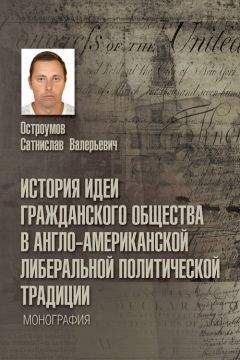Чтобы с ними разобраться, нужны обсуждения, критика и сравнительные материалы. Внести небольшой вклад в продвижение и формирование таковых — задача настоящего сборника. Глядя на чужие традиции, начинаешь лучше понимать свою. Это — принцип, который никогда не покидал антропологическое познание (причем с самого раннего времени, когда антропология сложилась как наука метрополии о колониях, в кривом зеркале которых метрополия со страхом узнавала саму себя: свое «детство», свою «скрытую природу», свои неосознаваемые «привычки» и «вожделения», скрытые за фасадом «цивилизации»).
Кроме того, опыт зарубежных, особенно европейских традиций всегда был неким любопытным ориентиром для российской/советской традиции. С одной стороны, он нередко демонстративно отторгался как чуждый (точка зрения, что у России свой специфический путь, никак не нова и, как известно, даже не является изобретением советской идеологии); но, с другой стороны, он определял очень многое, что появлялось в российской/советской традиции. В этом смысле не будет большим преувеличением сказать, что по специфике своего развития российская антропология всегда была вторична (возможно, некоторые сочтут это обидным, однако замечу, что это составляет кулуарное знание, которым в коридорах академических учреждений и на кухнях все делятся без обид). Да, безусловно, в XIX в. она была, что называется, «в струе», как правильно замечает в своей статье Сергей Соколовский, но все равно развивалась с оглядкой на европейскую. В этом нет совершенно ничего плохого, ибо во многом так же изначально развивалась и американская антропология (причем сходств между контекстами становления антропологии в России и США XIX в. было много — и там и там новообразованная наука была ориентирована на цели внутреннего колониализма, а не внешнего, как, например, в Великобритании; и там и там она выросла на экспедициях по освоению территории и т. д.). В то время как в Испании, например, антропология вообще не сложилась как таковая и была введена по образцу лишь во второй половине XX в.
Но другое дело, что, набрав, аккумулировав некий интеллектуальный капитал, американская антропология смогла развить и выставить собственную сильную традицию, которая оказалась конкурентной основным европейским традициям и впоследствии по целому ряду параметров превзошла их. Советская этнография, увы, не смогла создать конкурентную традицию — перспективные наработки в ней были (и к 1920-м годам они были, кстати сказать, весьма интересны), но по разным причинам не смогли получить эффективного развития. Амбициозная программа новой советской этнографии была практически свернута идеологическим решением заточить ее в русло вспомогательных исторических дисциплин[6]. А в дальнейшем предметная область этнографии была еще более специфическим образом сужена в результате навязывания теории этноса, схоластической конструкции, которая по сути редуцировала все многообразие поведенческого и культурного мира человека к его этническому бытию. «Фокус» и «оптика» дисциплины, как любит говорить Сергей Соколовский[7], в определенный момент сузились настолько, что перестали быть интересными и понятными для соседних дисциплин (причем, по иронии, в тот исторический момент, когда в западных академических сообществах антропология как раз стала раскрываться навстречу соседним дисциплинам, когда в гуманитарном мире стало происходить, так сказать, «переоткрытие» антропологии). Еще раз, — и это чрезвычайно важно подчеркнуть, — это вовсе не значит, что в этнографии советского периода не было мыслящих ученых. Они были, и среди них были блестящие и выдающиеся[8]. Но непреложный факт в том, что двух десятков блестящих ученых еще недостаточно для кристаллизации сильной традиции. Для последней необходимо не только присутствие важных интеллектуальных фигур, но и эффективная организация общего дискурса — увы, не в последнюю очередь, вот это самое банальное постоянное пережевывание блестящих идей на массовом уровне (в традиции же советской этнографии «массам» обычно не рекомендовалось обсуждать блестящие идеи, высказанные авторитетами наверху). Критическая рефлексия и то, что называется «feedback» — некое зондирование общественного интереса и общественной реакции по ту сторону дисциплины, — эти необходимые составляющие антропологии как чуткой развивающейся традиции также являются предметом размышления в большинстве статей настоящего сборника. Как метко замечает Пенни Харвей в статье о британской антропологии, зондирование это особенно важно «ввиду того, что в наших внутрицеховых представлениях и в представлениях более широкого общества присутствуют различные понятия о том, на чем именно держится наша „дисциплина“ как нечто цельное, и, конечно, ввиду того, что сфера пересечения между данными представлениями так невелика и так ценна».
Сегодняшний контекст развития антропологического (как, впрочем, и любого другого гуманитарно-академического) знания уже существенно отличается от того, что имел место четверть века или тем более полвека назад. И способы организации дискурса, и способы институциональной организации исследовательских сообществ претерпели ощутимые изменения. Многие приоритеты и линии демаркации, сложившиеся на том или ином этапе XX в., сегодня не работают. Так, в антропологии/этнографии сегодня больше нет никакой «школы МГУ», «петербургской школы» и т. д. Есть виртуальные «интерпретативные сообщества», как назвал их американский литературовед Стенли Фиш, которые складываются по самым разным критериям и факторам: критериям выбора объекта исследований, факторам личных концептуальных или теоретических предпочтений и пр. «Школы», в старом смысле слова, в сегодняшнем контексте не являются эффективным способом организации исследовательских сообществ и теряют способность воспроизводиться (и здесь российское академическое сообщество лишь следует тенденции, обозначившейся в западных сообществах уже четверть века назад). Традиционные научные «школы», какими мы их знаем, поддерживались характерной системой более или менее перманентного сосредоточения кадров в одном месте в условиях невысокой институциональной мобильности, монополией организации на определенный род источников (источники, которые были доступны в одной организации, не были доступны в другой и ревниво охранялись), своеобразной «идеологическо-теоретической» конкуренцией между организациями, которая также опиралась на понятия о преемственности и лояльности (понятия, характерные для науки эпохи высокого модернизма, но унаследованные от более ранних эпох и на самом деле обусловленные столетиями развития специфических догм в христианской традиции знания).
Сегодня эта картина размыта, и факторы, поддерживавшие ее гармоничный образ, сами трансформировались или девальвировались: институциональная мобильность очень повысилась (хотя до уровня, имеющего место в США, в России ей еще чрезвычайно далеко), прежней монополии на источники больше нет, идеологическо-теоретическая конкуренция больше не выступает эффективным мотивирующим фактором, принципы долговременной преемственности и лояльности не работают в мобильном и фрагментированном обществе, в котором понятие «социальная стабильность» потеряло былое значение. Иными словами, сегодня ученые объединяются не на тех принципах, что полвека назад. В настоящий момент на ниве антропологии в России трудятся многие остро мыслящие гуманитарии, но каверза в том, что они уже не представляют собой некой четко оформленной «российской» традиции — кто-то из них вращается в одном интерпретативном сообществе (которое может быть международным по составу и по предпочитаемому в нем теоретическому инструментарию), кто-то в другом (которое может быть, например, «российским» по составу, но совершенно эклектичным по дисциплинарному набору), кто-то в третьем (которое может быть вообще, скажем, преимущественно «французским» или, например, «англоязычным»), кто-то в четвертом (которое может быть удалено от всех остальных, подобно сообществу староверов).
Такая же ситуация наблюдается и в сегодняшних зарубежных антропологических традициях (причем во многих она выражена в гораздо большей степени, чем в российской). Она вовсе не означает того, что антропологическая дисциплина рассыпается. Она означает то, что дисциплина развивается, приспосабливаясь к новым условиям. Действительно, было бы странно, если б в ней все оставалось по-прежнему.
Однако инерция и привычки, наработанные на этапе, который отошел в прошлое, но который вместе с тем был так недавно, конечно, дают о себе знать. Так, несмотря на текучий и мобильный контекст эпохи глобализации и на происшедшую de facto смену ориентиров в построении исследовательских проектов, антропология, например, до сих пор остается привязанной к принципу региональной специализации (который Джордж Маркус называет парадигмой «народов и регионов» и который, несомненно, хорошо знаком отечественным этнографам и антропологам). Этот принцип, с исторической точки зрения, представляет собой наследие того, что антропология сложилась в характерном геополитическом климате эпохи высокого развития национальных государств, эпохи колонизации и деколонизации, иными словами, эпохи, в которой объект антропологии — пресловутые «Другие» — в некотором роде реифицировался и отождествлялся с конкретной физической пространственной фигурой, имеющей выражение на карте. И хотя Джордж Маркус говорит: «Ясно, что сегодня этнографы уже не могут изображать их „объект“ в своих статьях и монографиях в таких „объективных“ красках, в каких они могли изображать его ранее», все же следует констатировать, что ничего еще до конца не ясно и противоречия между способами реального производства и способами формальной институционализации знания сохраняются (опять же обретая локальную специфику в разных «национальных» академических традициях).