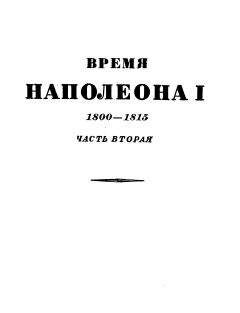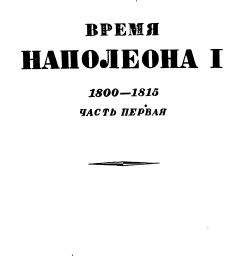Достойно удивления не то, что терпение народов в конце концов иссякло, а то, что они так долго выносили этот режим беспорядочных опытов. Их покорность объясняется различными причинами: удивительным обаянием гения завоевателя, подавленностью, охватившей самые стойкие умы при виде его побед; почти зачаточным состоянием немецкого национального самосознания, которое поддавалось всяким экспериментам; противоположностью интересов и давнишними взаимными счетами, затруднявшими всеобщее восстание; медленностью сообщений, отсутствием независимой печати. А главное — смутный инстинкт подсказывал немцам, что совершенное дело плодотворно. Воспитанные в школе писателей, всячески подчеркивавших, что считают патриотизм стеснительным предрассудком, расположенные в силу фаталистических наклонностей своей расы к подчинению велениям судьбы, немцы принимали законы, предписанные им чужеземным властителем, потому что в конце концов законы эти были хороши. Национальная гордость была в них еще недостаточно развита для того, чтобы отвергать без испытания насильно навязываемое им благо.
Сколько бы ни выставлял себя Наполеон продолжателем «третьей династии»[3], пурпуровая мантия, в которую он облекался, плохо прикрывала наследника революции. Он в известной мере держался принципов 1789 года, поэтому его господство повлекло за собой неисчислимые блага, и побежденные не переставали благодарить его. Понадобились долгие годы и чрезвычайное накопление насилий и ошибок, чтобы лишить Наполеона расположения, которым он пользовался. Да и то оппозиция нарастала чрезвычайно медленно, и никогда не была настолько всеобщей, как можно было бы предположить по априорным соображениям[4].
Левый берег Рейна. В департаментах, доставшихся Империи от Конвента, французское господство принято было без протестов. С того момента, как они были заняты революционными армиями, и вплоть до установления Консульства департаменты эти пережили тяжелые годы. Разрыв сношений с правым берегом, отъезд знати и богачей, произвольные реквизиции, лихоимство генералов и откупщиков, продажность чиновников, бессистемность управления — тяжело отразились на народном благосостоянии; но анархия и нужда хотя и вызывали вполне законное недовольство, однако не привели к подлинному пробуждению народа. Изнывая веками под гнетом духовенства или под мелочным деспотизмом посредственных и бессильных династий, отвыкшие от всякого морального усилия, чуждые Германии, литературная и философская эволюция которой осталась им незнакомой, при-рейнские жители собственными своими монархами были приучены подчиняться покровительству Франции, и потому протестовали не против завоевания, а только против невыносимых злоупотреблений, с ним связанных.
Первый консул уничтожил поборы генералов, наказал чиновников-лихоимцев, осмотрительно подобрал новый штат служащих, установил всюду управление, основанное на законе, честное и преданное общему благу[5]. Этого было достаточно для устранения всякой ненависти. Те немногие, которые надеялись учредить независимую республику, а также и те, кто не прощал первому консулу похищения свободы, остались в одиночестве и утратили всякое значение. Восторг, вызванный здесь Бонапартом, был столь же единодушен и столь же велик, как во Франции. Наполеон несколько раз объезжал прирейнские департаменты; его принимали как спасителя, и во встречавших его изъявлениях преданности, при всей их официальности, чувствуется благодарность освобожденного народа.
До революции немецкие провинции левого берега Рейна распределены были между 9 архиепископствами и епископствами, 6 аббатствами, 76 графами и князьями, 4 вольными городами, не говоря уже о независимых имперских рыцарях, ордене св. Иоадна Иерусалимского, тевтонских рыцарях. Каждое из этих владений имело свои особые обычаи, свои суды, свои таможни. При таких условиях завоевание уже-само по себе являлось огромным благодеянием. Это обнаружилось, как только кончилась анархия, и жители, знакомые пока только с тревогами и смутами революции, испытали ее-благотворное действие.
В деревне успехи были особенно заметны. «Земледелие станет процветать в новых прирейнских департаментах, — заявлял первый консул, — как только с продажей национальных имуществ земли попадут в руки настоящих землепашцев». Будущее оправдало эти слова. В некоторых местностях дворянство и церковь еще владели двумя третями или даже тремя четвертями всей земли. Национальные земли, не находившие покупателей при Директории, потому что-все боялись возвращения старых хозяев, были скуплены крупными компаниями, которые разбили их на мелкие участки. Мелкие собственники, уже довольно многочисленные, избавленные теперь от феодальных повинностей — десятины и барщины, — радостно принялись за дело. Постоянное прохождение войск давало им возможность продавать, продукты с барышом, денег было много, и Гёррес предсказывал начало новой эры — преобладание крестьянства. Безопасность была полная: разбойничьи шайки, гнездившиеся в горах и прославившиеся своими главарями, были уничтожены, и жандармерия, заботливо подобранная, внушала всем> доверие и уважение. Дороги содержались хорошо, и новые пути открывали самым отдаленным округам доступ к богатству и деятельности. Неудобства, вызванные употреблением в судах французского языка, с избытком вознаграждались-единообразием законов, равным для всех судом и установлением устного и гласного судопроизводства. Гражданский кодекс, введенный в 1804 году, отвечал потребностям нового-общества и, способствуя проникновению в нравы принципов 1789 года, создавал ту социальную гармонию, которая должна была, даже сильнее единства языка, окончательно скрепить, новые провинции со старой Францией.
В городах сопротивление было более продолжительным. Они пострадали сильнее: многие города потерпели ущерб вследствие исчезновения прежних княжеских дворов и сожалели о. том, что утратили значение столиц; образованные классы пользовались здесь большим влиянием и сильнее чувствовали подчиненное положение, на которое их обрекали обстоятельства. Однако они не могли не признать добрые намерения, новых французских администраторов. Префекты назначены, были с большим разбором. Жан-Бон Сент-Андре, пробывший в Майнце двенадцать лет и внесший в императорскую администрацию добродетели старых республиканцев, завоевал сердца своей простотой, героическим бескорыстием, упорным трудолюбием, твердостью, с которыми он защищал интересы вверенного ему населения. С меньшим размахом его примеру следовали префекты трирский, ахенский и кобленцский: разумные санитарные мероприятия уменьшили смертность; организована была общественная благотворительность; возродились промышленность и торговля; новый дух охватил население, выдающиеся природные способности которого едва не зачахли, тогда как теперь они снова пробуждались к жизни.
Без сомнения, не все было совершенно, и не было недостатка в поводах для жалоб. Налоги казались тяжелыми: соляной налог, а больше всего налог на напитки и табачная монополия раздражали эту страну виноградарей и курильщиков. Беспрерывные войны, суровость рекрутского набора, континентальная блокада и грубость таможенных досмотрщиков, применявших со всей резкостью и без того суровые правила, — все это вызывало глухое недовольство. Разрыв Наполеона с римским папой беспокоил религиозное сознание многих, хотя, может быть, и не сказался здесь с такой силой, как в Бельгии. Императорское правительство было смущено этим охлаждением, но сумело противопоставить ему лишь мелочные притеснения, только усилившие недовольство.
Вследствие неожиданного поворота общественного мнения самые непримиримые враги нового порядка вербовались главным образом среди писателей, учителей, адвокатов, т. е. как раз среди тех, кто вначале составлял ядро французской партии. О грустью расставшись со своими прекрасными мечтами о свободе, они задыхались под неумолимым надзором повелителя, всякую мысль отождествлявшего с возмущением. Чтобы избавиться от тягостной и ненавистной им своим единообразием централизации, они уходили в прошлое. Гёррес, братья Буассере (особенно Сульпиций) находились в тесных сношениях с братьями Шлегель и зарейнскими романтиками и, следуя их примеру, увлекались средними веками, отыскивали картины XIV и XV веков, оплакивали заброшенность недостроенного Кельнского собора. Так, не отдавая себе вполне ясного в том отчета, оппозиционеры вернулись к старой Германии; они чувствовали себя изгнанниками в стране энциклопедистов и Вольтера. Но их сожаления оставались платоническими: Наполеон был слишком грозен для того, чтобы они решились бороться с ним; их духовные страдания были мало понятны народным массам, и их угрюмое отшельничество не остановило хода изменений, совершавшихся вокруг.