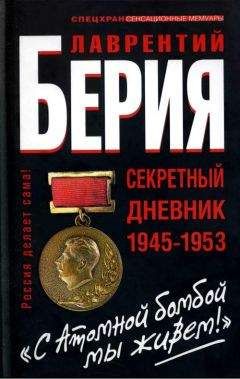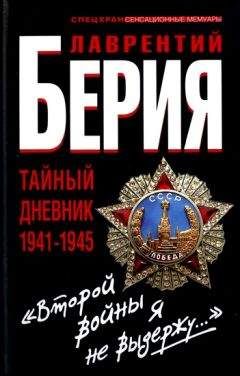Хрущев, Маленков, Берия и Булганин решили, что неудобно им появляться и фиксировать свое присутствие, когда он в таком неблаговидном положении. Четверка уехала домой.
Не успел Никита Сергеевич прилечь, как снова раздался телефонный звонок. На проводе был Маленков. Ему только что звонили из охраны. Они встревожены: все-таки со Сталиным что-то не так. Хотя Матрена Петровна и сказала, что он спит спокойно, — это необычный сон. Что-то уж больно долго. Надо еще поехать.
Условились, что Маленков позвонит другим членам Бюро Президиума — Ворошилову и Кагановичу, которые отсутствовали на обеде и в первый раз на дачу не приезжали. Условились также, чтобы приехали врачи (о «молодых» членах Бюро Президиума Сабурове и Первухине почему-то забыли. — А. К.).
Снова, второй раз за ночь, приехали в дежурку. Прибыли врачи. Одного из них Хрущев знал, это был Лукомский. Других не запомнил.
Наконец-то зашли в комнату. Сталин лежал на кушетке, спал. Врачам было отдано указание приступить к обслуживанию. Профессор Лукомский подошел к лежащему со страхом. Прикасаясь к руке Сталина, подергивался, как от горячего железа. Берия грубовато подбодрил его: мол, вы врач, берите, как следует.
Профессор Лукомский сказал, что правая рука не действует. Парализована и левая нога. Он даже говорить не может. Состояние тяжелое. Сразу разрезали костюм, переодели и перенесли его в большую столовую. Положили на кушетку там, где он спал, где больше воздуха. Тогда же решили установить дежурство врачей».
Странно, но Н. Зенькович как бы не замечает ошибки Н. Хрущева, что у Сталина парализована левая нога, возможно, он и сам так считает, несмотря на официальное правительственное сообщение, что у больного не действовали правые конечности?
Обратим еще раз внимание на то, что медики «сразу разрезали костюм, переодели и перенесли его в большую столовую». Здесь «ключевое» слово — КОСТЮМ.
«Члены Бюро Президиума тоже установили свое постоянное дежурство. Распределились так: Берия с Маленковым, Каганович с Ворошиловым, Хрущев с Булганиным. Маленков с Берией взяли себе дневное время, Хрущеву с Булганиным досталось ночное (это, надо полагать, на первые сутки. — А.К.).
Теперь уж всем стало ясно, что Сталин в тяжелом положении. Врачи сказали: при таком заболевании никому еще не доводилось вернуться к труду. Жить Сталин еще может, но будет ли он трудоспособен, маловероятно. Чаще всего такие заболевания непродолжительны и кончаются катастрофой.
Присутствовавшие делали все, чтобы поднять больного на ноги. Сталин лежал без сознания. Его стали кормить с ложечки. Давали бульон и сладкий чай. Врачи откачивали мочу, он был без движения.
Хрущев заметил такую деталь: когда откачивали мочу, Сталин старался прикрыться, видно, ощущал неловкость. Это вселяло надежду: значит, что-то сознает.
Однажды днём, к сожалению, Хрущев не запомнил, на какой день заболевания это было, Сталин как бы пришел в сознание. Однако говорить он не мог. Поднял левую руку и начал показывать не то на потолок, не то на стену. У него на губах появилось что-то вроде улыбки. Потом стал сжимать левой рукой правую. Правая не действовала.
Хрущев пишет, что он догадался, почему больной показывал рукой. На стене висела картина. Это была вырезанная из «Огонька» репродукция с картины какого-то художника. Девочка, ребенок, кормит из рожка ягненка. В это время Сталина поили с ложечки, и он, видимо, показывал пальцем и пытался улыбаться: мол, посмотрите, я в таком же состоянии, как этот ягненок, которого девочка поит с рожка, а вы меня с ложечки.
Как только Сталин заболел, Берия ходил и ругал его, издевался над ним. Стоило же появиться на лице больного признакам сознания, как Берия бросился к кушетке, встал на колени, схватил его руку и начал ее целовать. Когда Сталин опять потерял сознание и закрыл глаза, Берия поднялся и плюнул.
«Наступило наше вечернее дежурство с Булганиным. Мы и днем оставались. Кончилось наше дежурство, и я поехал домой», — пишет Хрущев. Хотелось спать, потому что не спал на дежурстве. Принял снотворное и лег. Не успел уснуть, как раздался телефонный звонок».
Мемуарист, к сожалению, не указывает дату, когда это происходило. Но, судя по подробнейшему описанию всех сколько-нибудь значимых событий, речь идет об одних сутках. Хрущев не говорит, что он не спал на дежурствах, он употребляет это существительное в единственном числе. Да и фразу начинает однозначно: «Наступило наше вечернее дежурство с Булганиным. Мы и днем оставались». Речь, скорее всего, идет о 2 марта».
Странная логика у автора. Н. Хрущев, как и остальные соратники И. Сталина прибыл к умирающему Сталину утром 2 марта. Распределили парные дежурства у смертного одра вождя, Хрущеву с Булганиным досталось ночное дежурство. После которого он остался на даче и днем, то есть уже 3 марта, когда на дневное дежурство заступили Ворошилов и Каганович. Вновь заступает (вместе с Булганиным) на ночное, то есть, с 3-го на 4 марта. Отдежурили и наконец-то едут домой отдыхать, поскольку на дежурстве спать не полагалось. «Принял снотворное и лег. Не успел уснуть, как, раздался звонок». И тут автор начал вычислять, когда его поднял с постели этот звонок и к нашему удивлению утверждает, что это было… 2 марта? Запомним и мы.
«Запомним эту немаловажную деталь, она нам еще пригодится, и последуем за мемуаристом дальше. Итак, Хрущева, пришедшего с первого вечернего дежурства, подняли с постели. Звонил Маленков. У Сталина ухудшение. Надо срочно приезжать.
Хрущев вызвал машину и поехал в Кунцево. Действительно, Сталин уже был в очень плохом состоянии. Тут приехали остальные члены Бюро и все увидели, что Сталин умирает. Медики сказали: это агония. Вскоре он перестал дышать. Начали делать искусственное дыхание, но это не помогло (т. е. Сталин умер 3 марта? — А/С).
Обратимся теперь ко второму, наконец-то опубликованному у нас свидетельству — Светланы Аллилуевой.
Второго марта ее разыскали на уроке французского языка в Академии общественных наук и передали, что Маленков просит приехать на ближнюю дачу. Это уже было невероятно — чтобы кто-то иной, а не отец, приглашал ее приехать к нему на дачу. Она ехала туда с чувством смятения.
Когда она въехала в ворота и на дорожке возле дома машину остановили Хрущев и Булганин, Аллилуева решила, что все кончено… Она вышла, они взяли ее под руки. Лица обоих были заплаканы. «Иди в дом, — сказали они, — там Берия и Маленков тебе все расскажут».
В доме, уже в передней, все было не как обычно; вместо привычной тишины, глубокой тишины, кто-то бегал и суетился. Когда дочери сказали, что у отца был ночью удар и что он без сознания, — она почувствовала даже облегчение, потому что ей показалось, что его уже нет.
Аллилуевой рассказали, что, по-видимому, удар случился ночью, его нашли часа в три ночи лежащим вот в этой комнате, вот здесь, на ковре, возле дивана, и решили перенести в другую комнату на диван, где он обычно спал. Там он сейчас, там врачи, — она может идти туда.
Она слушала, как в тумане, окаменев. Все подробности уже не имели значения. Она чувствовала только одно — что он умрет. В этом она не сомневалась ни минуты, хотя еще не говорила с врачами, — просто она видела, что все вокруг, весь этот дом, все умирает у нее на глазах. И все три дня, проведенные там, она только это одно и видела, и ей было ясно, что иного исхода быть не может.
Стоп, прервемся на минутку. Отметим про себя немаловажное обстоятельство: Светлана Аллилуева авторитетно свидетельствует, что она пробыла в доме умирающего отца три дня. Значит, до 5 марта! (Ну и что? — АЖ.).
Идем дальше. В большом зале, где лежал отец, толпилась масса народу. Незнакомые врачи, впервые увидевшие больного (академик В. Н. Виноградов, много лет наблюдавший отца, сидел в тюрьме), ужасно суетились вокруг. Ставили пиявки на затылок и шею, снимали кардиограммы, делали рентген легких, медсестра беспрестанно делала какие-то уколы, один из врачей записывал в журнал ход болезни. Все делалось, как надо. Все суетились, спасая жизнь, которую нельзя было уже спасти.
Где-то заседала специальная сессия Академии медицинских наук, решая, что бы еще предпринять. В соседнем небольшом зале беспрерывно совещался какой-то еще медицинский совет, тоже решавший, как быть. Привезли установку для искусственного дыхания из НИИ, и с ней молодых специалистов, — кроме них, должно быть, никто бы не сумел ею воспользоваться. Громоздкий агрегат так и простоял без дела, а молодые врачи ошалело озирались вокруг, совершенно подавленные происходящим. Светлана Иосифовна вдруг сообразила, что вот эту молодую женщину-врача она знает, — где она ее видела? Они кивнули друг другу, но не разговаривали. Все старались молчать, как в храме, никто не говорил о посторонних вещах. Здесь, в зале, совершалось что-то значительное, почти великое, — это чувствовали все — и вели себя подобающим образом.