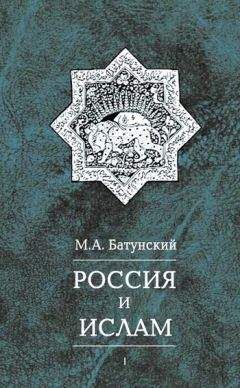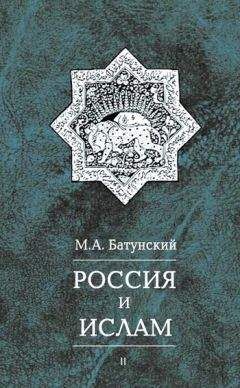Или определенной неясности, что, я думаю, ближе к истине.
Однако интересно, что именно грек (по имени Максим) пытается вернуть словам ясность и определенность, пробует положить конец «бесконечному процессу расщепления смысла» в понятии «мусульманин». Это ему не удается. Априорный канон, хранимый на скрижалях византийской ортодоксии, не помогает найти выход из домена, накрывшего всех общей крышей. Элита держится, а народ ищет. Канон хранится, а язык повседневности делает свое дело: расщепляет понятия, применяясь к меняющейся ситуации. Ислам – далеко, он в «неясной определенности». А кто близко? Вот его-то и определяют каждый раз. Поганец. Нехристь. Татарин. Турок. Араб. Перс. Пока князья делят ярлыки, народ интуитивно делит имена, дробит понятия, удваивает контуры.
У Лотмана Батунский находит следующую мысль:
– Персонажи драмы «Русь – Восток» распадаются на отчетливо эквивалентные пары, которые при (условном) образном переводе в циклическое время взаимно свертываются, образуя в конечном итоге одно лицо.
Мгновенно вспоминается Иван Грозный, формально посадивший на свой престол Симеона Бекбулатовича, хоть и крещеного, но все-таки явного татарина. Эйзенштейн истолковал это удвоение в контексте всеобщего архаического «переворачивания»: раб – государь… Для киногении хорошо. Но в реальной истории каждый раз переворачивается по-своему. Одно дело – когда раз в год в известный день басилевс моет ноги нищему. И другое – когда царь юродствует по непредсказуемому календарю. Фронтальное противостояние, созидавшее сентиментально-романтическую русскую душу в домонгольские времена, уступает место партизанскому хитроумию московитов.
Марк пишет об этом так:
– Свершается отход от эссенциализма былой русской аксиоматической системы абсолютных оценок, склонной категорически противопоставлять и навсегда разъединять категории «православная Русь» и «восточные нехристи» как воплощающие соответственно понятия «Добро» и «Зло». Коль этот массив можно «размыть» и «расщепить» на идеологически конфликтующие слои с разнородными мотивационными установками, придать ему тем самым неоднозначную детерминацию, заставить его расширить и сами переменные социокультурные параметры, и амплитуду их колебаний, то, значит, не надо уже предаваться иррациональному отчаянию, но можно твердо рассчитывать на то, что есть выход из «железного кольца», в которое заключили Русь «поганые». И выход этот – во всемерном стимулировании процесса христианизации, адаптации и ассимиляции «своих» восточных этносов или же «в крайнем случае» в поиске гибкой тактики сосуществования с ними, действуя поливариантно, в зависимости от ситуации. Это требовало разъединения единоверных (и даже единокровных) групп, «нехристей».
Непосредственное политическое следствие этой ментальной перестройки – различение «чужих» и «своих» басурман. Но опосредованно здесь закладывается тот «загадочный» русский характер, перед которым будут столбенеть последовательные европейцы: что это за непредсказуемость, что за импульсивная спонтанность и задний ум, что за фантастическая живучесть в безвыходных ситуациях и фантастическая же беззаботность в ситуациях элементарных!
Да вот элементарное-то и путается, тасуется, сдвигается. При каждом корне – букет суффиксов, незаметно меняющих окраску и оценку. При каждом понятии – пучок синонимов, мерцающих непредсказуемо. Так и хочется добавить: из каждого убежища – два выхода, один, о котором все знают, другой – потаенный…
Марк формулирует устами итальянца обнаружившего нечто подобное у испанцев:
– «Эвристический подход», предполагающий возможность нескольких решений, готовность к «расчленению» проблемы на целый ряд новых проблем и требующий, чтобы суждение опиралось на личные критерии.
Личные критерии, пожалуй, придется отложить до эпохи Просвещения. А вот судьбы веры и государства определяются на Руси именно в этот, московитский период. А также и судьбы народов, среди которых все интереснее различать и объединять своих и чужих.
Тут вместе с Батунским надо бросить взгляд на «плоть» русской религиозности, разделяющей нас не столько даже с «агарянами», сколько с «папежниками».
– В православии клир не так кардинально, как в католицизме, отделен от мирян… отсутствует наднациональная централизованная организация, национальные церкви вполне автономны по отношению к вселенскому патриарху, авторитет которого и теоретически ниже авторитета соборов; допускается богослужение на национальных языках. Все это не позволило православию обрести космополитический характер, который свойственен католицизму, и создало на русской почве предпосылки для соединения принципа православия с «русской идеей»
А ведь здесь корень проблемы, которая и теперь мучает русских идеологов, ищущих «национальную идею». Что мучает? Если идея национальная, значит, надо распрощаться с мессианством, которое веками держало русскую душу в самоощущении величия решаемых задач, диктуя московитам – роль Третьего Рима, подданным Российской империи – веру в то, что мы больше европейцы, чем сама Европа, а советским людям – убеждение, что они прокладывают революционный путь всему человечеству. Допустим, все это химеры. Но в их тени (в их свете) создана тысячелетняя культура. И это реальность.
В «философской плоскости» Марк формулирает проблему так:
– Православное самосознание пребывает в сложной ситуации: с одной стороны, оно не может быть представлено без конкретно-национального духа, а с другой – должно проявляться вне его, превосходя его, перекрывая его, ибо постоянно должно нацеливаться на божественную сверхреальность.
Сверхреальность сверхреальностью и остается. А вот соединение несоединимого, загадочное и нелогичное (а когда русские действовали по логике?) – только и позволило им, перехватив у татар структуру верховной власти, наполнить ее и выстроить великое государство. Может, оно и «национально» по форме, но по содержанию – разомкнуто разом во вселенскую высь и немереную ширь.
На чем стоим и шатаемся по сей день.
– И хотя его конструирующим элементом остается национальная субстанция, последняя предполагалась как «разомкнутая», чуждая каким бы то ни было «фиксированным» состояниям, актуальным позициям. Ведь один лишь переход в православие в состоянии вписать любого представителя любого объявленного доселе ущербным фрагмента человечества («басурмане», «язычники», «лютерцы», «кальвины», «папежи» и пр.) в тотальную гармонию, которую Всевышний устанавливает через демиургически-мощную русскую официальную религиозную институцию и неразрывно с ней спаянную уникально-русскую ментальность, единственный и неповторимый русский модус поведения.
Этот «модус», как известно, вошел в фольклор, где русский с кем угодно побратается, то есть выпьет и переспит под забором. Вошел и в политическую историю, где Ивану III (еще не заслоненному безумным внуком) было найдено должное место на латинской шкале, – так умело он «разделял и властвовал», или, по острой Марксовой формулировке, «одних татар губил при помощи других». Бог ему судья.
С точки зрения исламоведения Иван III на некоторое время снял проблему, сумев наладить добрые отношения с Османской империей. С точки зрения русской судьбы проблема была еще только поставлена.
– Отныне эволюция русского социума становилась мозаичной, ибо каждый входящий в нее этноконфессиональный коллектив (или система таковых) обретал собственный темп и скорость развития (или, напротив, стагнации), – ситуация, в конце XV в. оказавшаяся в целом благоприятной для централизующейся монархии, с ее совершенствующимися механизмами регуляции внутренней жизни и осложнившимися программами поведения на международной арене.
С каковым багажом Русь Московская и отправляется на следующий этап – к Российской империи.
Диалог 3
От царства к империи
Переход государства и народа из одного состояния в другое может быть осознан двояко: либо как последовательное накопление черт, оформляемое впоследствии «скачком» в новое качество, либо как «скачок», открывающий простор для накопления новых черт…
– Я интерпретировал бы падение золотоордынского владычества на Руси, а вслед за тем завоевание Казани и Астрахани как «перерыв постоянности», означающий переход к новому качеству, к новому структурному уровню, на котором уже значительную роль начинает играть момент дискретности.
…То есть дробления, членения… А это не противоречит тому, что общество должно было скреплять себя обручем единой доктрины? Или это двусторонний процесс: членение реальности и одновременно скрепление ее доктриной? Чтобы отталкиваться и прыгать, нужно иметь твердую опору…