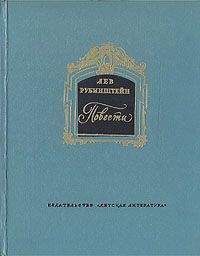Женщина погрозила мальчику кулаком и торопливо зашлёпала к дому. В сарае послышался шорох, и прежний голос спросил:
— Лёшка, а Лёшка! Ушла?
— Ушла.
— Вылезать?
— Сиди. Нынче день неспокойный.
У Лёшки Бакеева была очень сердитая мать. В молодости была она замужем за понизовым казаком,[6] который прибежал в Москву с Волги после казни лихого атамана Стеньки Разина. Не сносить бы головы Бакееву-старшему, да никто его не знал в этих краях, и он правильно рассудил, что лучше податься в Москву, чем бродить по Волге, где его в конце концов схватили бы царские стражники.
Так он и прожил свой век в Измайлове сторожем на заброшенном Льняном дворе; мастерил удочки, ловил рыбу в Измайловских прудах, старался никому на глаза не попадаться, в церковь исповедоваться не ходил; а если его спрашивали, откуда он родом, то отвечал, что из Мурома. Да он и в самом деле был из Мурома.
От него Лёшка слышал множество песен и рассказов про синее море, про белогрудые паруса, про казачьи лодки, про то, как горел город Астрахань на Волге, как казаки уничтожили царский корабль «Орёл» и как славно они пировали. Весной, когда над Москвой шли с северо-востока низкие чёрные тучи, когда на Яузе начинал трещать лёд и ветер сотрясал соломенные кровли в Измайлове, у Лёшкиного отца начинался приступ тоски. Он без конца говорил о том, как пройдёт лёд, как задует ветер, как пойдут с низовья караваны с солью и рыбой, с персидским шёлком и с бусами, а с севера повезут пеньку, полотно и лес; как дожидаются ветра тяжёлые суда на Москве-реке и Оке и как в затонах по ночам горят костры. Мать бранила отца, топала ногами, проклинала тот день, когда вышла за него замуж, упрашивала хотя бы невинное дитя пощадить и не рассказывать ему сказок про вольных молодцов да про дальние края. Когда Лёшке было семь лет, отец умер, а мать раз навсегда запретила ему поминать отцовы сказки. Но Лёшка не забыл ни одного слова. Мальчик он был молчаливый и задумчивый. Часами сидел он на пустом дворе, глядел на облака, вдыхал полной грудью весенний ветер и запах сырого дерева от намокших после дождя брёвен.
Он тайно играл в казаков. Когда матери не было, он, размахивая самодельной саблей, брал приступом сарай и испускал боевой казачий клич: «Сарынь на кичку!»[7] Затем он врывался в сарай, где испуганно кудахтали куры, и брал в плен хохлатку.
В глубине сарая стояло в пыли и мраке какое-то странное сооружение: это была лодка, но не такая, какие ходили по Москве-реке.
Лодка была узкая, длинная, с красивыми крутыми боками. На ней торчала, упираясь в стрехи сарая, мачта. Реи[8] были обломаны, руль наполовину сгнил. На носу было когда-то выведено золотой краской название, но оно стёрлось. Остался только красно-зелёный нарисованный глаз, который, как казалось Лёшке, светился в темноте. На борту и на остатках рея любили сидеть куры. Лёшка сгонял их, но куры считали эту странную штуку в сарае своей собственностью, тотчас же садились снова и пачкали палубу.
— Кыш отсюда, хохлатые! — кричал на них Лёшка. — Куда вам, курам, на кораблях плавать! Вы и летать-то не умеете!
Куры быстро моргали, самодовольно глядя на Лёшку: смотри, дескать, какой у нас высокий насест, выше ничего на свете не бывает.
Лёшка взбирался на эту лодку и, прислонившись к мачте, командовал:
— Парус поднять! Смотри в оба — купец идёт! Пищали[9] и сабли изготовь! Правее держи! Ещё правее! Спускай вёсла на воду! Выгребай сильней, братцы, а то уйдёт! А ну, за мной!
И Лёшка бросался в бой. Но тут мать приходила к курам, и Лёшке приходилось уходить на двор. Он садился на кучу брёвен и пел вполголоса, глядя на небо.
Так и сейчас. Только мать ушла и Лёшка замурлыкал вполголоса ту же песню, как вдруг перед ним выросли два человека.
Один из них был высокий юноша в зелёном кафтане. На шее у него был повязан белый шарфик, на ногах были сапоги выше колен. За ним с трудом поспевал тучный иностранец с толстым, гладко выбритым лицом.
У иностранца на жирных ногах были белые чулки и туфли с пряжками. На голове у него торчала плоская круглая шляпа, словно не надетая, а поставленная на голову.
— Ты кто? — спросил юноша, подбегая к Лёшке стремительной, прыгающей походкой.
— Я сторожев сын, — сказал Лёшка, низко кланяясь странно одетому юноше.
— Звать как?
— Лёшка.
— Ты что пел?
Лёшка покраснел до корней волос.
— Это песня мореходная, — сказал он. — Это про ладьи.
— Я слышал, что мореходная. «Забелелися на кораблях паруса полотняные…» — а дальше как?
Лёшка поглядел на юношу исподлобья. Юноша смотрел не строго. Губы у него сложились в усмешку. Живые чёрные глаза смеялись.
— Ну, что ты молчишь? Не бойся.
— Матушка не позволила таковы песни петь.
— А я позволяю.
Лёшка вздохнул:
— Дальше так поётся: «А не ярые гагали[10] на сине море выплыли, выгребали тут казаки середи моря синего…»
— Казаки?
— Мейнгер[11] Питер, — резко сказал иностранец, — не слушайте эту песню: это воровская песня!
— Отстань, мейнгер! Разве казаки и по морям плавали?
— Ещё как! — гордо сказал Лёшка. — По синему морю Хвалынскому да к дальнему персиянскому берегу…
— Откуда знаешь?
— Слышал, — многозначительно отвечал Лёшка.
— А дальше? Песня-то как дальше поётся?
— Дальше забыл, — сознался Лёшка.
— Эх ты, певец! А что за сарай?
— Боярина Никиты Ивановича покойного…
— А что там?
— А там хлам всякий.
Куры закудахтали в сарае.
— Курятник, что ли?
— Пойдёмте, мейнгер Питер! — сердито сказал иностранец. — Тут нет ничего примечательного.
Юноша повелительным жестом указал на сарай:
— Открой!
— Не указано открывать, — пробормотал Лёшка, боязливо оглядываясь.
— Кем не указано?
— Царёвы люди не велят.
— А я велю. Ну!
Юноша нахмурил брови. Видя, что Лёшка колеблется, он подбежал к двери и распахнул её. Куры испуганно закудахтали.
— Что это? Что за лодка? Мастер Тиммерман, погляди-ка! Тиммерман подошёл поближе, посмотрел и произнёс не торопясь:
— Это есть бот.
Юноша схватил Тиммермана за руку и почти силой втащил его в сараи.
— Какой бот? Зачем?
— Ходить по воде, — отвечал Тиммерман, брезгливо стряхивая с туфель солому и куриный помёт.
— Это я и без тебя знаю. А зачем у него мачта?
— Ходить под парусами, — сказал Тиммерман, — и не только по ветру, но и против ветра.
— Как против ветра? Врёшь ты, мейнгер! Такого не бывает.
— Не прямо против ветра, — сказал Тиммерман, обиженно надувая толстые щёки и шею, — а вот так…
И он показал рукой, как лавирует бот.
Юноша легко вскочил на борт и потрогал мачту.
— Хороша ладья! — сказал он.
Лёшка стоял в стороне и с опаской поглядывал на кучу рогожи, лежавшую на корме бота. Тиммерман угрюмо смотрел на судёнышко.
— Бот старый, гнилой, — пробурчал он, — плавать на нём нельзя, он утонет. Пусть уж лучше останется в сарае.
— Починить можно! — весело отозвался юноша. — А что там, на корме?
Юноша шагнул в бот. Послышалось его удивлённое восклицание, и он вылез, держа за шиворот какого-то мальчика в грязном потешном мундире. Этот мальчик оказался капитаном Фёдором Троекуровым.
Юноша расхохотался:
— Вот ты где прячешься, Фёдор! А тебя по всему Измайлову царицыны люди ищут. Хитрец!
— По вашей воле, господин бомбардир, — мрачно проговорил Фёдор.
— Кто же тебя кормит?
— А вон парень, Лёшка Бакеев, сторожев сын. Такого страху я набрался, сил нет. Приходили сюда стремянные,[12] весь сарай обшарили. А я в лодку спрятался. С тех пор в ней и сижу.
— Отец твой упрям, как колода, — сказал юноша-бомбардир, — вынь да положь ему сынка! Он до того меня доведёт, что я его прогоню. Ну что ж, сиди!
Он повернулся к Лёшке:
— Эй, поди сюда, парень! Тебе зачем бот нужен? Ты на нём плаваешь, что ли?
— Я на нём играю…
— Во что же ты играешь?
Лёшка хотел сказать: «в казаков», но, поглядев на Тиммермана, сдержался.
— В море.
Юноша расхохотался звонко и искренне:
— Так ты мореход?
Лёшка смотрел на его смеющееся лицо и растрёпанные ветром длинные волосы. Этот бомбардир с каждой минутой всё больше ему нравился.
— А что ж? — неожиданно сказал Лёшка. — Ежели починить ладью да на воду спустить — вот-то поплывём!
— Кто же поплывёт?
— Да мы с тобой, бомбардир!
Высокий юноша снова расхохотался. Смех его звучал всё задорнее.
— Разве ты умеешь плавать?
— Ну, я-то, положим, не очень, — признался Лёшка, — а отец мой по морю-Каспию ходил, а дед, бают, и до самого города Веденца добирался, что на воде стоит…