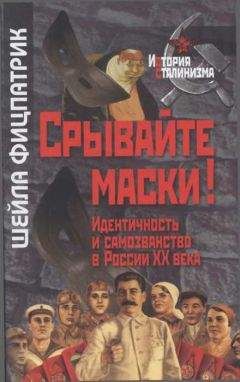Так и получилось, что стезя социального историка привела меня на территорию, активно колонизируемую молодыми историками культуры, представителями школы «советской субъективности»{7}. Различия между нами очевидны. Их интересуют идеология и дискурс и увлекает в первую очередь теория. Меня интересуют социальная практика и повседневность, и я не слишком жалую тотальное теоретизирование, будь оно марксистское или «фукоистское» (разделяя, между прочим, вместе с Марксом глубокие подозрения в отношении идеологии как ложного сознания). Их внимание сосредоточено на «Я» и субъектности[5]; мое — на идентичности и идентификации. Но, по-моему, различия в историческом подходе как раз и делают научную работу интересной. Появление на сцене новой когорты историков — один из главных факторов, способствовавших оживлению в области советской истории в 1990-е гг. Если бы меня попросили выделить два важнейших аспекта этого оживления, я назвала бы, во-первых, перенос внимания на человеческий опыт, а во-вторых, — решительное окончание «холодной войны» в советской истории (новое поколение, в отличие от своих предшественников-«ревизионистов», не нападало на стереотипы «холодной войны» прямо, но его равнодушие оказалось для этих стереотипов губительнее лобовой атаки). Пятнадцать лет назад еще живо было застарелое представление, будто «советская идеология» — нечто насильно скармливаемое режимом населению и пассивно потребляемое атомизированными представителями последнего. То, что у нас появился «сталинистский субъект» как «полноправный идеологический агент»{8}, — большой шаг вперед.
Идентичность: определение и теоретическая основа
Прежде чем двигаться дальше, остановимся на понятии «идентичность». В последние годы этот термин вошел в моду в общественных науках, им бросаются направо и налево, и в результате он сделался обескураживающе многозначным{9}. Меня интересует не столько персональная, сколько социальная идентичность, т. е. то, как человек позиционирует себя в социальном или групповом контексте, а не то, что он думает о себе как отдельной личности[6]. Говоря «идентичность», я имею в виду самоидентификацию и/или самопонимание в соответствии с принятыми в данный момент категориями социального бытия. Конечно, между самоидентификацией (процессом маркирования, которое может рассматриваться только как средство для достижения определенной цели) и самопониманием (т. е. уверенностью человека, что он именно таков, каким сам себя представляет) есть разница. В моем определении эта разница намеренно затушевывается, поскольку я считаю, что самопонимание субъекта доступно историкам только благодаря таким практикам, как самоидентификация. В этой книге «идентичность» — сокращенное наименование результата комплексной ревизии самоидентификации, связанной с Русской революцией[7].
В дискурсе первых лет советской власти ближайшим синонимом термина «идентичность» было «лицо». Слово «лицо» в смысле «идентичность» почти всегда употреблялось с двумя определениями: «классовое» и «политическое». Классовую (так же как и тесно связанную с ней политическую) идентичность следовало «выявить» (т. е., согласно словарю Ушакова, «разоблачить, показать в подлинном виде»){10}.[8] Разговор об идентичности был неотделим от проблем ее маскировки и утаивания, поскольку революция сделала определенные типы социальной и политической идентичности опасными недостатками, заставляя тем самым их скрывать. Замаскированную идентичность надлежало «разоблачить»{11} — весьма ходовое словечко в раннем советском дискурсе. Двойную идентичность — «двуличие», «двурушничество» («поведение человека, наружно принадлежащего к одной группе, но действующего в пользу враждебной ей стороны (газ. презрит.)»{12}) — регулярно обличала советская пресса.
В советском контексте под двойной идентичностью понимается заведомо ложное представление человеком своего реального положения на особой оси идентичности — классово-политической. Но в действительности, помимо социально-политической, существует множество возможных осей идентичности: например, этнонациональная, семейная, конфессиональная, тендерная. У человека всегда много идентичностей, т. е. способов самоидентификации, характеризующей его положение в мире и взаимоотношения с другими людьми. Если идентичность — место в определенной классификации, которое некая личность считает своим, ожидая, что и окружающие признают его за ней, то один и тот же человек может сочетать в себе, скажем, идентичности мужчины, рабочего, коммуниста, мужа/отца, русского.
Самоидентификация основывается на феноменах реальной жизни, таких, как родной язык, происхождение, род занятий, но при этом она подвижна и подвержена изменениям. Изменения могут быть вызваны обстоятельствами: например, когда Советский Союз в начале 1990-х гг. прекратил существовать как государство, идентичность «советского гражданина» моментально утратила жизнеспособность. Наряду со стечением обстоятельств может сыграть роль и личный выбор, как в случае с идентичностью «дворянина»: в советские времена иметь ее стало невыгодно и даже позорно, но в 1990-е гг. она воскресла из небытия после нескольких десятков лет неактуальности. Конструирование идентичности на основе реальных фактов биографии в зависимости от обстоятельств и выбора может давать очень разные результаты. Представьте только, какой широкий спектр возможностей этнической самоидентификации находится, к примеру, в распоряжении человека, говорящего по-русски, родившегося в России, но имеющего дедушку-еврея и бабушку-украинку. Кроме того, значение для самого человека различных типов самоидентификации (например, как жены, женщины, коммунистки, интеллигентки или еврейки) может радикально меняться на разных этапах жизни и под воздействием различных внешних условий.
Большинство современных социологов и философов полагает идентичность — социальную, национальную, конфессиональную и пр. — не врожденной чертой, а «сконструированной», т. е. воспитанной культурой окружающей среды. Исключение представляет персональная идентичность: она, отмечает политолог Дэвид Лэйтин, «твердо зафиксирована в изначальном, родовом дискурсе», и человек, придумывающий себе новые имя и репутацию, обычно считается мошенником{13}. Тем не менее и по этому вопросу полного согласия среди ученых нет. В своей работе, посвященной социальной психологии, оксфордский философ Ром Харрё утверждает, что персональная идентичность тоже, по сути, формируется человеком на основе культурных норм[9].
Конечно, здравый смысл требует принимать положение о «сконструированности» социальной идентичности с известными оговорками. Как указывает Лэйтин, «социальная солидарность строится на реальном фундаменте»: «Определяя собственную идентичность, люди бывают ограничены своими генами, своим внешним обликом, своей историей, хотя и не являются их узниками»{14}. Если обратиться к советским примерам, — образованный горожанин, не имеющий деревенских корней, вряд ли сумел бы сконструировать себе идентичность «бедного крестьянина», зато сельский житель, чья семья, пусть в настоящий момент и бедная, принадлежала к духовному сословию или процветала когда-нибудь в прошлом, вполне мог получить от своих врагов ярлык «кулака».
Харре рассматривает два направления формирования идентичности: конструирование социальной идентичности, означающее отождествление себя с некой группой или категорией, и конструирование персональной идентичности, имеющее целью установить степень своей особости внутри категории. Первое, по его словам, является «главной задачей» для «маргиналов», которые изначально не имеют ясного социального положения и нуждаются в том, чтобы «слиться… с каким-нибудь фоном… приобрести защитную окраску». Второе — для людей, твердо стоящих на своем месте, «тех, у кого слишком много социальной идентичности, кто родился в лоне семьи, класса или нации, слишком детально задающих им способ социального бытия». Для них «проблема — выделиться из толпы», выработать сознание своей особости{15}. Психологов, лукаво замечает Харре, в основном интересует социальная идентичность, потому что они «сами в той или иной степени маргиналы». А как насчет революционных переворотов, когда происходит массовая дестабилизация социальной идентичности? Мне кажется, к таким условиям концепция Харре особенно подходит. В более широком смысле можно сказать, что социал-конструкционистский подход к истории дает наибольшие дивиденды в ситуации, когда огромное множество людей, лишившись социальных «руля и ветрил» (например, во время революции), испытывают величайшую потребность найти социальную категорию, к которой они могли бы прибиться.