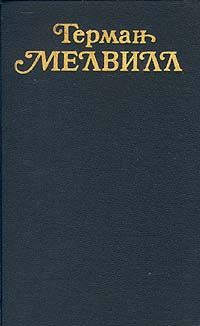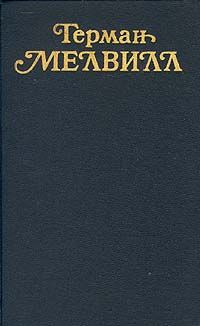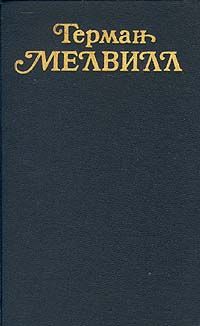– С вашего разрешения, сэр, мне это не известно.
– Тебе не известно, где ты родился? А кто был твой отец?
– Бог его знает, сэр.
Офицер, заинтересованный наивным простодушием этих ответов, спросил затем:
– Тебе что-нибудь известно о твоем происхождении?
– Нет, сэр. Но я слышал, что меня нашли рано поутру в красивой, подбитой шелком корзине, которую кто-то прицепил к дверному молотку одного почтенного бристольского жителя.
– Нашли, говоришь? Ну что ж, – офицер откинул голову и осмотрел новобранца с ног до головы, – ну что ж, находка оказалась недурной. Пусть почаще находят таких, как ты, любезный. Флоту они очень пригодились бы.
Да, Билли Бадд был подкидышем, предположительно незаконнорожденным и, очевидно, благородной крови. Порода чувствовалась в нем, как в скаковой лошади.
А в остальном, хотя Бадд не обладал особой остротой ума или мудростью змеи, да и голубиной кротостью тоже, он все же был в достаточной мере наделен здравым смыслом и нравственным чутьем неиспорченного человека, которого еще не угостили сомнительным яблоком познания. Он был неграмотен. Но если читать он не умел, зато хорошо пел и, подобно неграмотному соловью, нередко сам слагал свои песни.
Склонность к познанию самого себя у него развита не была – во всяком случае, немногим больше, чем у сенбернаров, насколько мы можем о них судить.
Жизнь его была связана с морской стихией, и сушу он знал только как «берег», то есть как ту часть земного шара, которую благое провидение предназначило для танцевальных заведений, портовых девок и кабаков – всего того, чем полон сказочный «Матросский рай», – а потому сохранял первозданную простоту и был чужд нравственных экивоков, иной раз вполне тождественных тем искусственным построениям, что носят названия добропорядочности и благопристойности. Но беспорочны ли моряки, любители бродить по «Матросскому раю»? Отнюдь нет, однако у них так называемые пороки гораздо реже, чем у обитателей суши, порождаются нравственной низостью, и в злачные места их влечет не столько порочность, сколько избыток жизненных сил после долгих месяцев воздержания – просто и прямо, в полном согласии с естественными законами. По природным наклонностям, которые доставшийся ему удел лишь усугубил. Билли во многих отношениях был прекраснодушным дикарем, каким, скажем, мог быть Адам до того, как сладкоречивый змий вкрался к нему в доверие.
И тут следует указать на одну особенность, которая как бы подтверждает догмат о грехопадении (догмат, ныне почти забытый): если кому-то, кто внешне приобщен цивилизации, бывают присущи некие первобытные и неразжиженные добродетели, при ближайшем рассмотрении почти всегда оказывается, что они не только не порождены обычаем или принятой моралью, но скорее противоречат им, точно перенесенные в наш век из того времени, когда не было еще ни града Каинова15, ни городского человека. Для тех, чей вкус не испорчен, натура, наделенная этими качествами, обладает, подобно лесным ягодам, природным благоуханием, тогда как в человеке полностью цивилизованном тот же взыскательный вкус различит какую-то примесь, точно в крепленом вине. И к любому бездомному наследнику этих первозданных качеств, подобно Каспару Гаузеру16, неприкаянно блуждающему по улицам какой-нибудь шумной столицы, подойдет восклицание, которое без малого две тысячи лет назад исторг у поэта добрый поселянин, забредший в императорский Рим17:
И в мыслях, и в словах прямого,
Что в город привело, о Фабиан, тебя?
Хотя внешность нашего Красавца Матроса не оставляла желать ничего лучшего, он, подобно красавице в одном из рассказов Готорна18, обладал неким недостатком – правда, не видимым, как у нее, а недостатком речи, причем проявлялось это лишь при определенных обстоятельствах. Среди буйства стихии, в часы гибельной опасности трудно было бы сыскать другого столь бравого матроса, но под воздействием внезапного и сильного душевного волнения его голос, обычно на редкость мелодичный, как бы рождаемый внутренней гармонией, пресекался, он начинал говорить невнятно, заикался, а то и вовсе умолкал. Тут Билли являл собой разительное подтверждение того, что архитолкователь, коварный эдемовский завистник, все еще имеет касательство к каждому человеческому грузу, прибывающему на нашу планету. И всякий раз ему так или иначе удается сопроводить этот груз своей визитной карточкой, словно для того, чтобы напомнить нам: «Без меня тут дело не обошлось!»
Упоминание об этом недостатке Красавца Матроса показывает, что он не только не представлен здесь как обычный герой романа, но что и история, в которой он играет главную роль, – отнюдь не романтический вымысел.
«Неустрашимый», когда Билли Бадд был насильственно на него забран, направлялся в Средиземное море, где должен был присоединиться к действовавшему там флоту, что в скором времени и произошло. После этого он плавал вместе с другими кораблями эскадры, а порой, ввиду его отличных ходовых качеств и за отсутствием фрегатов, его посылали с особыми поручениями – в разведку или же для выполнения какой-либо более длительной миссии. Но все это не имеет прямого отношения к нашей истории, ибо она ограничивается внутренней жизнью только одного корабля и судьбой одного матроса.
Было лето 1797 года. А не далее как весной, в апреле, произошли беспорядки в Спитхеде, за которыми в мае последовало второе и гораздо более серьезное восстание на линейных кораблях в Норе, получившее название Великого Мятежа. И следует признать, что эпитет «великий» не содержит ни малейшего преувеличения – событие это представляло для Англии несравненно большую опасность, чем все декреты и манифесты французской Директории или чем все ее победоносные армии, вербовавшие сторонников самым фактом своего существования.
Мятеж в Hope был для Англии тем же, чем оказалась бы внезапная забастовка пожарных для Лондона, когда в нем вот-вот должен был бы заняться гигантский пожар. В момент тяжелейшего кризиса, когда Соединенное Королевство вполне могло бы предвосхитить прославленный сигнал, который несколько лет спустя был отрепетован по всей боевой линии перед решающим морским сражением19, и объявить, чего ждет сейчас Англия от каждого англичанина, вот в такой-то момент на мачтах трехпалубных семидесятичетырехпушечных кораблей, стоявших на ее собственном рейде, тысячи матросов флота, который был правой рукой державы, в те годы чуть ли не единственной из государств Старого Света обладавшей подобием свободы, под громовое «ура» подняли британский флаг без эмблем союза и без креста, превратив таким образом флаг прочного закона и оберегаемой им свободы во вражеский алый метеор необузданного и безудержного восстания. Обоснованное недовольство, вызванное притеснениями и некоторыми жестокими порядками во флоте, заполыхало безрассудным пожаром, точно подожженное раскаленными углями, которые летели через Ла-Манш из объятой пламенем Франции.
Это событие на время превратило в иронию пылкие строфы Дибдина20 (чьи песни служили английскому правительству немалым подспорьем), написанные по поводу событий в Европе и воспевавшие среди прочего верноподданнический патриотизм британского матроса:
А жизнь мою отдам за короля!
Естественно, что морские историки Альбиона касаются этого эпизода в его величественной морской истории лишь вскользь. Так, один из них (Д. П. Р. Джеймс21) откровенно признается, что был бы рад вовсе обойти его молчанием, если бы «беспристрастность не воспрещала брезгливости». И тем не менее он вместо обстоятельного рассказа ограничивается короткой ссылкой, почти совсем не приводя подробностей. И вообще, отыскать эти подробности в библиотеках – дело далеко не простое. Подобно некоторым другим катаклизмам, которые во все века выпадали на долю государств повсюду, не исключая и Америки, Великий Мятеж был событием такого рода, что национальная гордость вкупе с политическими соображениями требовала затушевать его на страницах истории, запрятать подальше от любопытных взоров. Оставить эти события вовсе без упоминания нельзя, но существует особый деликатный способ исторического их истолкования. Разумный человек не станет направо и налево кричать о семейном несчастье или позоре, а потому и нациям в сходных обстоятельствах можно извинить такую сдержанность.
Хотя после переговоров между правительством и вожаками и некоторых уступок в отношении наиболее вопиющих злоупотреблений первое восстание – в Спитхеде – было не без труда подавлено и на время наступило затишье, непредвиденная новая и гораздо более мощная вспышка в Hope, ознаменованная на последующих переговорах требованиями, которые власти сочли не только неприемлемыми, но и неслыханно дерзкими, показывает (если для этого недостаточно одного красного флага), какой дух обуял матросов. И все-таки мятеж был окончательно сокрушен. Но, возможно, объяснялось это лишь неколебимой верностью морской пехоты и добровольным возвращением к присяге многих влиятельных членов восставших экипажей. В определенном смысле мятеж в Hope можно уподобить вторжению заразной лихорадки в организм по сути здоровый, который затем полностью с ней справляется.