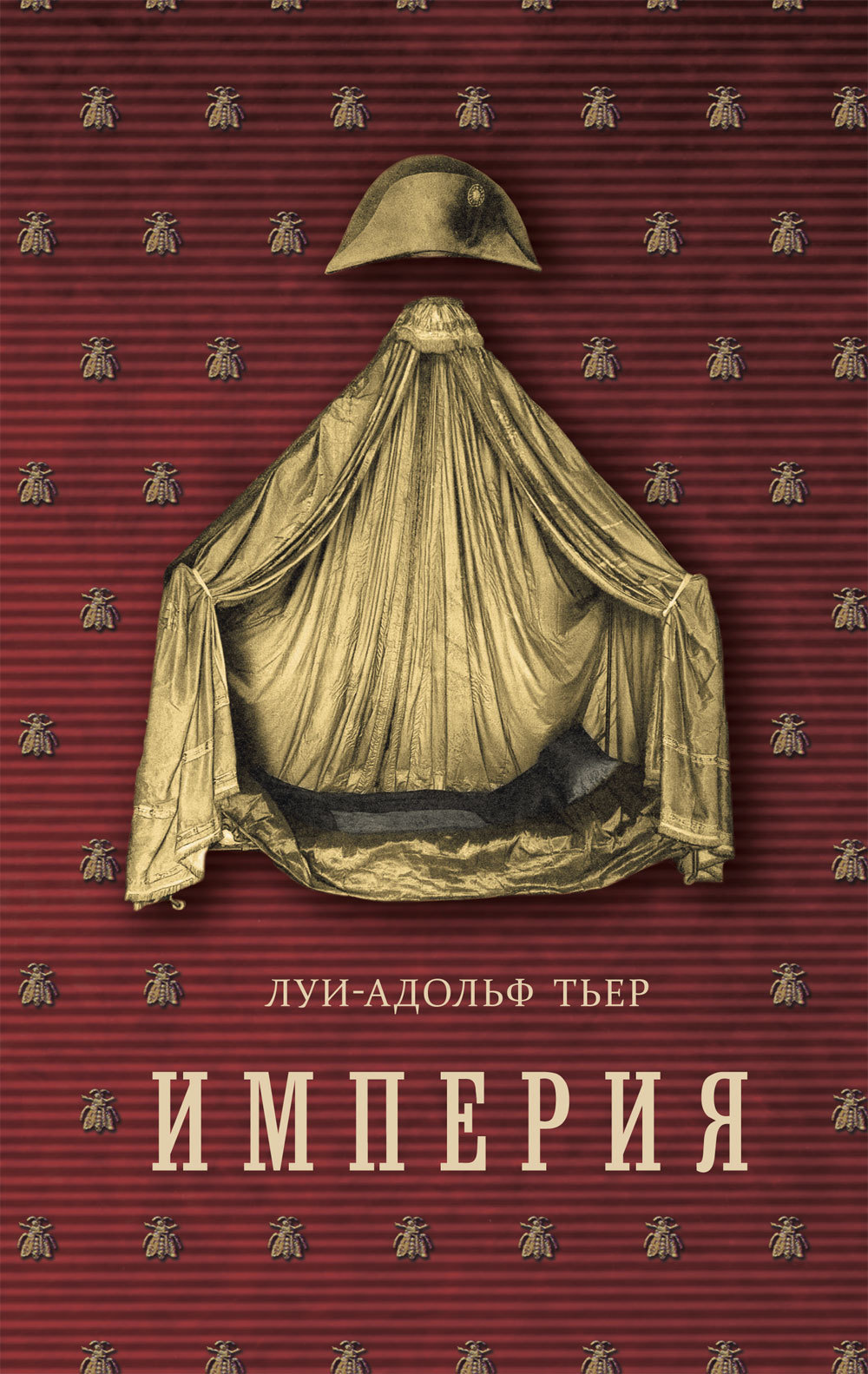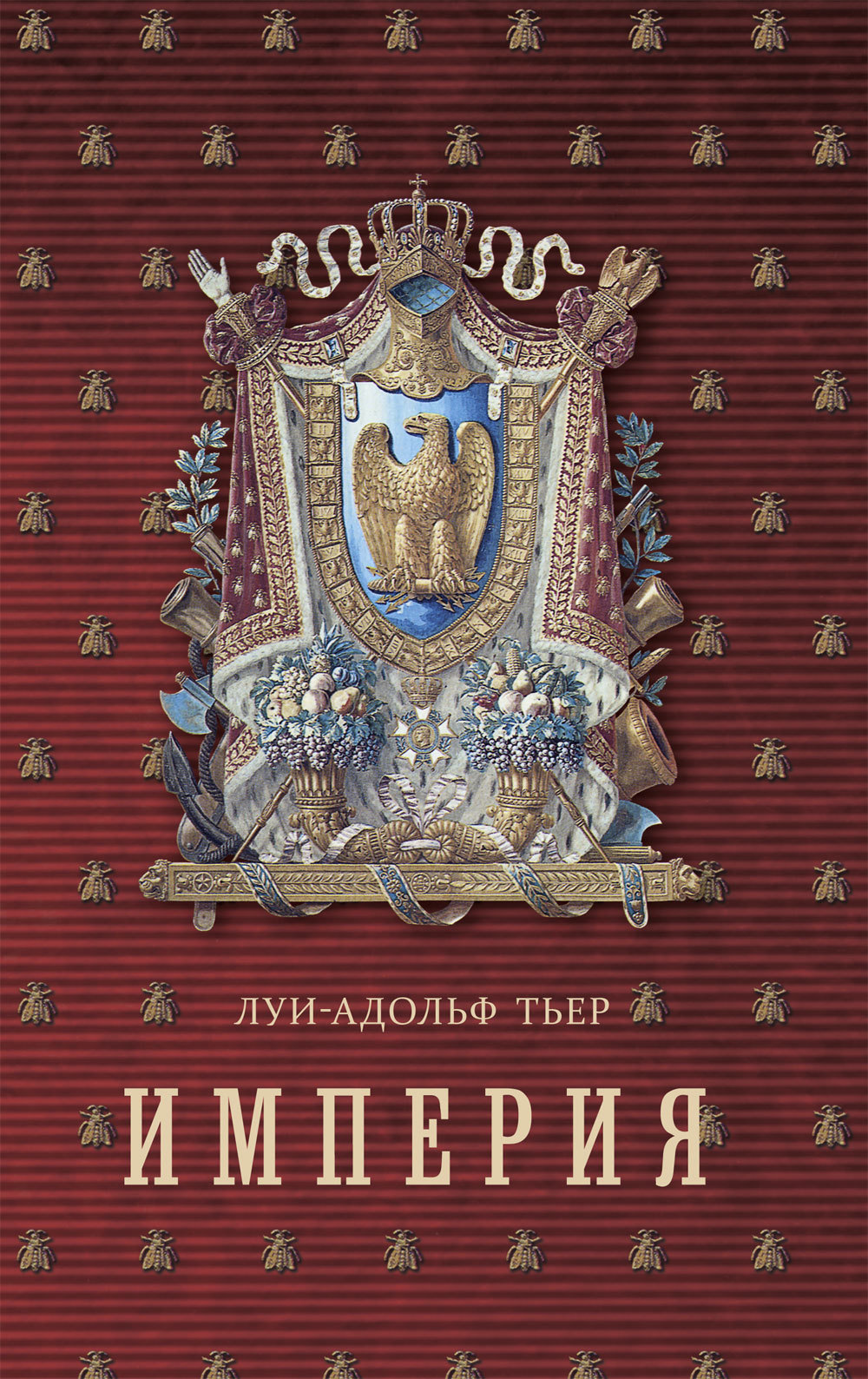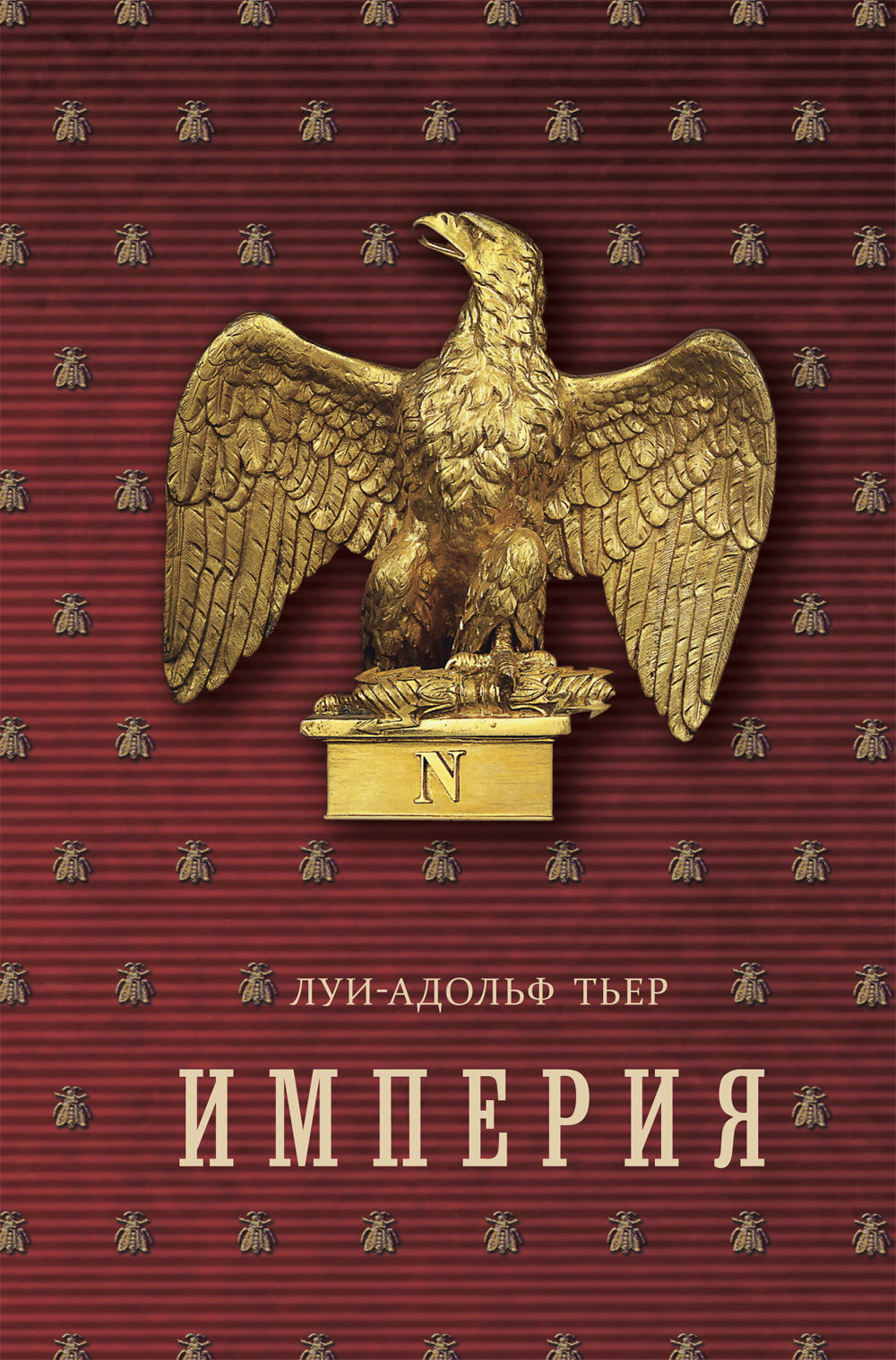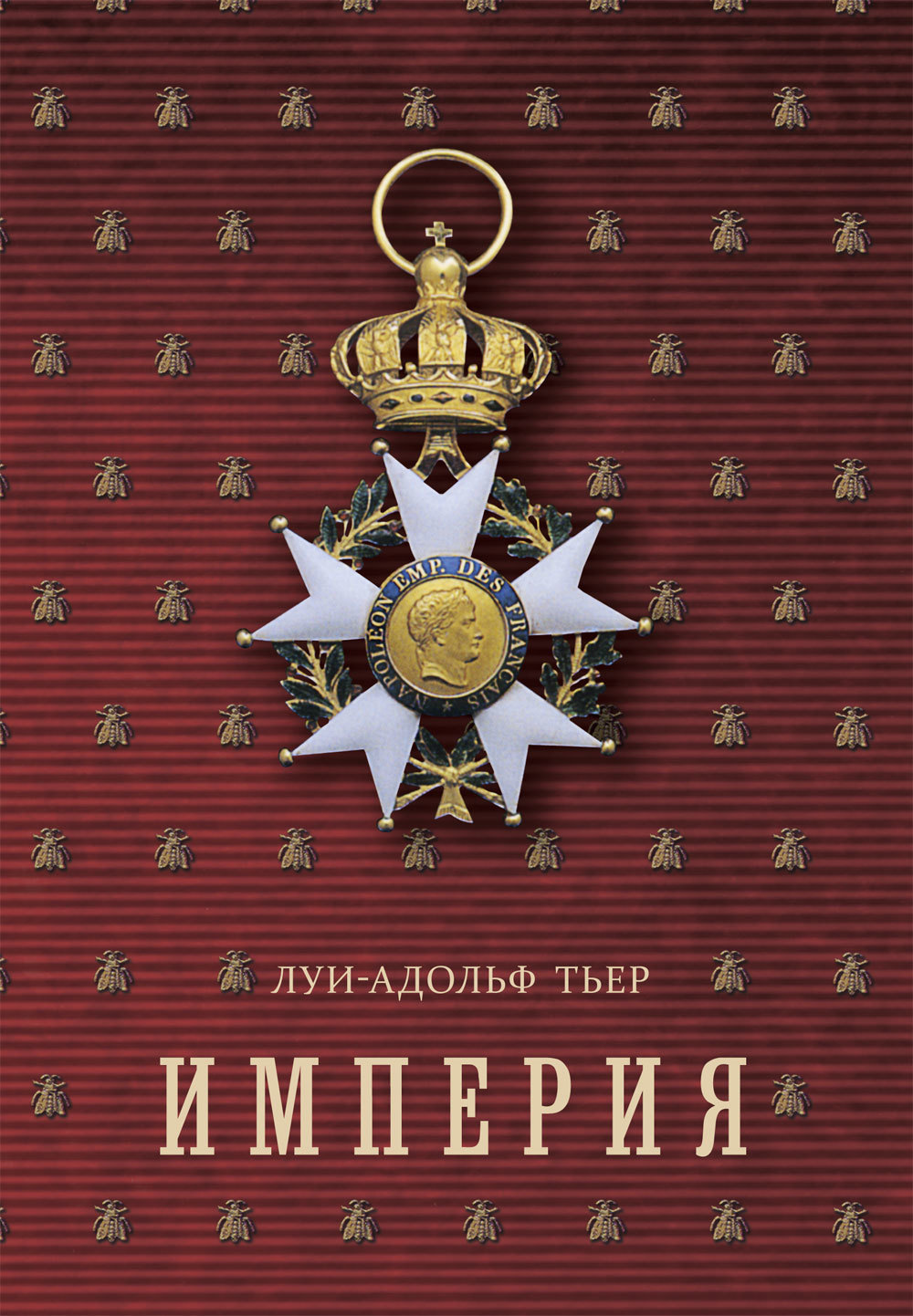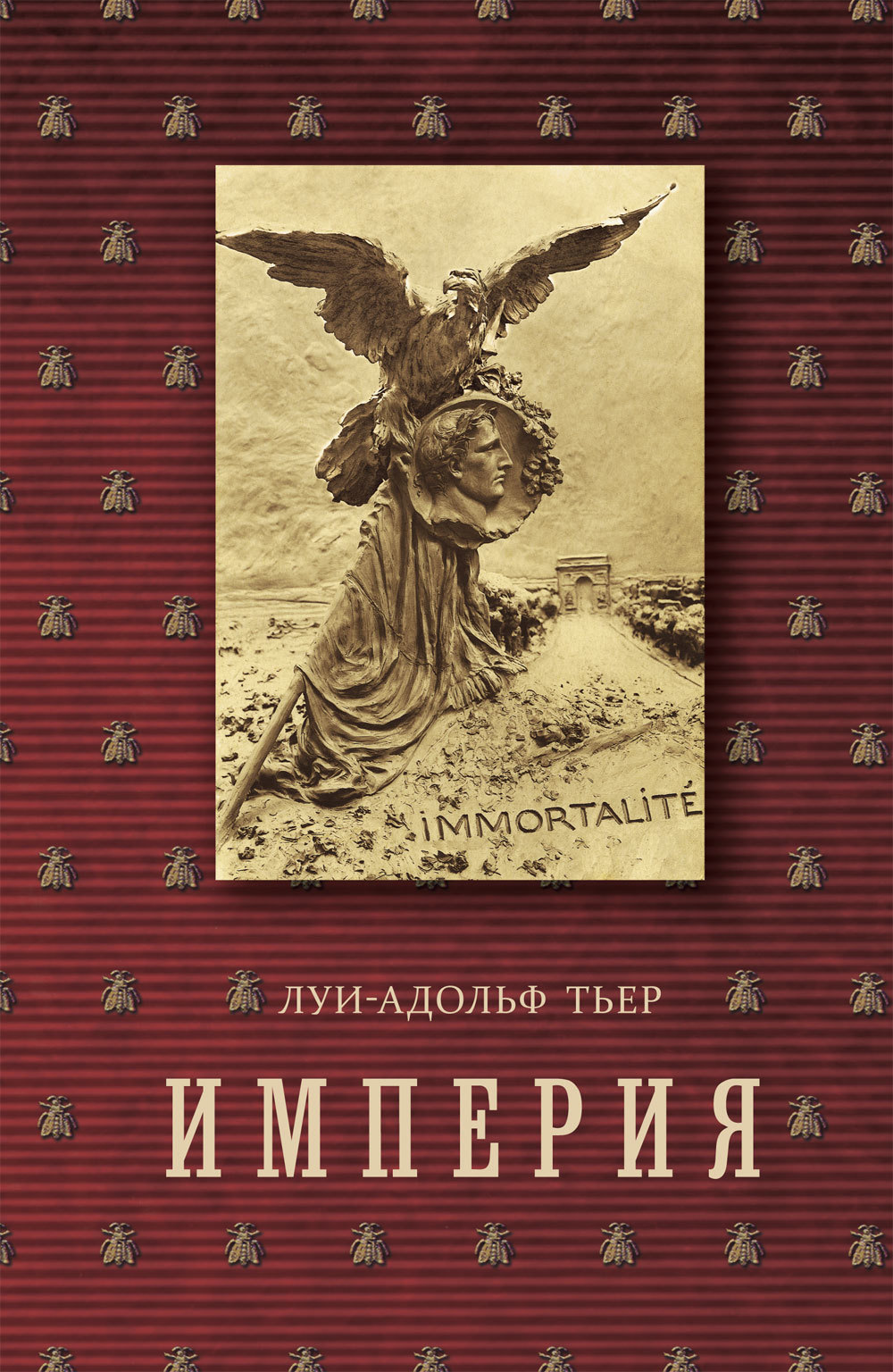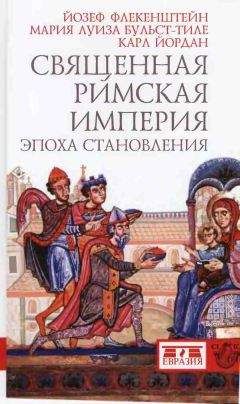долго сдерживать всеобщее возмущение, и потому он должен думать о переговорах, в результате которых Франция сохранит свое нынешнее величие, но откажется от угнетения чужой независимости. Меттерних добавлял, что у Австрии честные и умеренные цели, что она хочет остаться союзницей Франции, но нельзя, вместе с тем, требовать от нее, чтобы она проливала кровь своих подданных ради отягощения бремени, немалую долю которого приходится нести ей самой; что если от нее потребуют поддержать приемлемый для Европы мирный план, ее народ, возможно, простит ей сохранение союза с Францией, но в противном случае она возбудит всеобщее возмущение своих подданных. Меттерних сказал, что пришлось арестовать некоторых деятелей и произвести несколько отставок, чтобы вынудить замолчать самых громогласных германских патриотов. Но он заметил, что всему есть предел, что сейчас кабинет – это пловец, энергично плывущий против течения, и он сможет выплыть, только если Наполеон протянет ему руку. Затем, испугавшись, что в его словах можно обнаружить видимость угрозы или порицания, он рассыпался в заверениях привязанности к Наполеону и постарался отделить себя от тех, кто хотел бы принизить французского императора.
Получая в ответ на общие положения лишь общие слова о размахе вооружений и будущих победах, австрийский министр повторял то, что уже говорил неоднократно. Он говорил о невозможности сохранить Великое герцогство Варшавское, обреченное кампанией 1812 года;
о необходимости усиления промежуточных держав и прежде всего Пруссии, единственно способной заместить навеки уничтоженную Польшу; о необходимости восстановления Германии; о невозможности дальнейшего существования Рейнского союза, навсегда погибшего в глазах германских народов и более неудобного, нежели полезного, Наполеону;
о невозможности убедить воюющие державы примириться с окончательным присоединением к французской территории Любека, Гамбурга, Бремена.
«Нам уже будет трудно, – добавлял Меттерних, – помешать говорить о Голландии, Испании и Италии! Вероятно, о них будет говорить Англия, и если она уступит насчет Голландии и Италии, то не уступит насчет Испании. Но мы не станем говорить об этом, чтобы не усложнять дела, и, если нужно, оставим Англию в стороне и будем вести переговоры без нее. Возможно, мы убедим Россию и Пруссию отделиться от нее, если представим им приемлемые условия, и тогда мы окажемся верными союзниками Франции! Но, ради всего святого, пусть Франция объяснится, пусть сообщит нам о своих намерениях и даст возможность остаться ее союзниками, позволив бороться за справедливое дело, в котором мы можем признаться перед нашим народом!»
Меттерних не выказывал ни малейшей озабоченности частными интересами Австрии, что наглядно доказывало, что он может черпать многое в предложениях, со всех сторон поступавших Австрии. Чего ему только не предлагали страны коалиции! Но он не станет слушать их безрассудных предложений; он удовольствуется тем, в чем Австрии нельзя отказать, – частью Галиции, которую у нее забрали в 1809 году для увеличения герцогства Варшавского, и Иллирийскими провинциями, которые Франция обещала вернуть. Он говорил об этом как о чем-то бесповоротно решенном, тогда как между французским и австрийским правительствами едва было проронено на этот счет несколько слов.
Таковы были речи Меттерниха. Император Франц, более осторожный и менее смелый в речах, приняв Нарбонна самым любезным образом, сказал лишь, что доволен счастьем, обретенным его дочерью во Франции, ценит гений зятя и стремится остаться союзником Франции; но не скрыл и того, что сможет таковым остаться только в интересах мира, ибо его народ не простит ему союза с Францией ради других целей. Он добавил, что мир придется покупать победами и жертвами; что Наполеон правильно поступает, употребляя свои великие таланты на создание обширных ресурсов, ибо борьба будет упорнее, чем он может вообразить; но что в конце концов победами он несомненно приведет противников к более умеренным притязаниям, и если, победив их, согласится ради покоя народов на некоторые неизбежные жертвы, Австрия усердно будет ему споспешествовать и добудет долговременный мир, которого французский император должен желать после стольких славных трудов и которого сам он горячо желает не только как государь, но и как отец, ибо мир обеспечит благополучие его милой дочери и будущность внука, к которому он питает самые нежные чувства.
На заверения императора Нарбонн отвечал как мог изысканнее, продолжая восхвалять величие своего хозяина и воспользовавшись искусством, которому научился в салонах: прикрывать непринужденностью и любезностью невозможность сказать что-либо значительное. Он прекрасно понял, что самое большее, чего можно добиться от венского двора, это соблюдение нейтралитета, и что, ведя себя осмотрительно, мало сообщая австрийцам и ничего у них не прося, можно будет довольно долго удерживать их в пассивности, чего было пока достаточно. Нарбонн и намеревался порекомендовать такое поведение своему правительству, когда получил инструкции, которых так долго ждал.
Отправленные 29 марта и прибывшие 9 апреля, они вынудили Нарбонна оставить ничего не значащие речи, которыми он до сих пор ограничивался. Доведя откровенность до возможного предела, он зачитал Меттерниху текст герцога Бассано, способный возбудить улыбку австрийского министра хвастливым тоном, которым министр французский сдобрил необузданность Наполеона. Итак, Нарбонн зачитал план, в котором Австрии отводилась главная роль. В депеше говорилось, что коль скоро Австрия хочет мира, она должна быть способна его диктовать: подготовить огромные силы и потребовать, чтобы воюющие державы остановились, пригрозив бросить сто тысяч человек им во фланг. Затем, если они не остановятся, Австрия должна бросить эти войска в Силезию и оставить ее себе, в то время как Наполеон отбросит пруссаков, русских, англичан и шведов за Вислу.
Меттерних невозмутимо выслушал план, задал много вопросов, дабы прояснить все его подробности, и затем все же коснулся пункта, о котором в депеше не упоминалось. «А если воюющие державы, – спросил он, – остановятся по нашему требованию, какие основания для мира должны мы им предложить?» На этот вопрос Нарбонн ответить не мог, ибо депеша Маре возвещала лишь о военных мерах. На деле Наполеон не хотел еще говорить, какой он видит Европу в случае незамедлительного перехода к переговорам. Меттерних заявил, что наберется терпения относительно последнего пункта и будет много размышлять о том, что ему сообщили, будто всё им услышанное могло доставить материал для долгих размышлений. Он обещал ответить настолько быстро, насколько позволит столь важный предмет.
Ему понадобилось для ответа два дня, хотя размышлял он, весьма вероятно, едва ли более часа. Меттерних вызвал Нарбонна и с видом понятного удовлетворения объявил, что посовещался со своим государем и готов объясниться, поскольку важные предметы, о которых идет речь, не допускают отсрочки. Он безмерно счастлив, заявил министр, обнаружить свое полное согласие с императором Наполеоном по важнейшим пунктам последнего сообщения! Как и Наполеон, австрийский двор думает, что не должен ограничиваться второстепенной ролью и сводить свои действия к тому, чем они