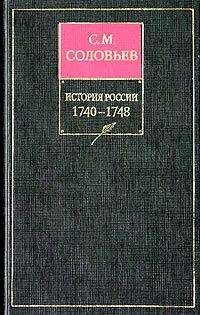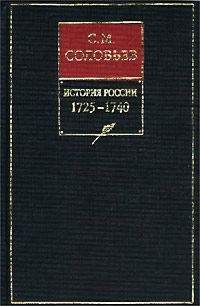Сыграно было на всех струнах. Лесток отправился с этими внушениями к Елисавете и в следующее свидание принес ответ, что цесаревна очень тронута доказательствами усердия, постоянно показываемого посланником; она желала бы отплатить ему, следуя его внушениям, но она всегда будет опасаться упреков от своего народа, если для достижения престола нанесет ему ущерб какими-нибудь уступками. Лесток именем Елисаветы спрашивал у Шетарди, нельзя ли будет удовольствовать шведов значительною суммою денег, которая была бы в состоянии вознаградить их за издержки и потери. «Цесаревна надеется, – продолжал Лесток, – что вы войдете в ее положение и согласитесь, что как дочь Петра I она должна соблюдать крайнюю осторожность относительно завоеваний своего отца, стоивших ему так дорого». «Король, – отвечал Шетарди, – хочет одного – видеть цесаревну на престоле – и готов оказать содействие, если только она даст ему возможность к тому. Его величество, как бы ни был рад подать помощь, будет, впрочем, одинаково доволен, каким бы способом цесаревна ни достигла престола. Следовательно, ей надобно обдумать, может ли она этого достигнуть своими собственными средствами. Если может, тем лучше: развязка будет более славна для нее, и помощь иностранная сделается ей бесполезною». «Но как вы хотите, чтоб она сама этого достигла?» – возразил Лесток. «В таком случае, – отвечал Шетарди, – опять дело цесаревны обдумать, может ли она надеяться на счастливый исход дела без помощи шведов. Надобно, чтоб она доставила королю средство служить ей или совершенно отказалась бы от надежды царствовать. Она тем более должна увериться в этой истине, что не может не признать, как поддается русский народ тяжести слепого рабства, и лишь только она отложит исполнение своего намерения, то этот же народ так привыкнет повиноваться настоящему правительству, что не будет более отличать иноземца, завладевшего властью, от законного государя».
Этими объяснениями переговоры надолго прекратились. Лесток не являлся к Шетарди; а между тем Нолькен получил от своего правительства дозволение на отъезд из Петербурга, с тем, однако, что предварительно достанет от Елисаветы письменное удостоверение, без которого секретный комитет ничего не может сделать. Несмотря на молчание Елисаветы, Шетарди настаивал, что для Швеции необходимо объявить войну; он писал: «Если бы даже шведы не могли ожидать себе помощи изнутри России, то я тем не менее убежден в необходимости для них воспользоваться этою минутою. Россия была очень привержена к австрийскому дому, отныне она будет предана ему окончательно, а если венский двор будет здесь посредственно царствовать, то от этого будет постоянный вред для Швеции и ее союзников. Напротив, если принцессе Елисавете будет проложена дорога к трону, то можно быть убежденным, что претерпенное ею прежде и любовь ее к своему народу побудят ее удалить иностранцев и совершенно довериться русским. Уступая склонности своей и народа, она немедленно переедет в Москву; знатные люди обратятся к хозяйственным занятиям, к которым они склонны и которые принуждены были давно бросить; морские силы будут пренебрежены, и Россия мало-помалу станет обращаться к старине, которая существовала до Петра I и которую Долгорукие хотели восстановить при Петре II, а Волынский – при Анне. Такое возвращение к старине встретило бы сильное противодействие в Остермане; но со вступлением на престол Елисаветы последует окончательное падение этого министра, и тогда Швеция и Франция освободятся от могущественного врага, который всегда будет против них, всегда будет им опасен. Елисавета ненавидит англичан, любит французов; торговые выгоды ставят народ русский в зависимость от Англии; но их можно освободить от этой зависимости и на развалинах английской торговли утвердить здесь французскую».
Шетарди напрасно старался убедить свой двор в выгодах правительственного переворота в России: версальский двор и без него понимал эти выгоды, понимал, что Елисавете трудно дать обязательство вознаградить Швецию из отцовских завоеваний; но он понимал также, что Швеция может надеяться на успех только в случае движения Елисаветиной партии, а об этом движении Шетарди не мог уведомить. Стали ходить зловещие слухи, что правительство знает о заговоре и медлит только для того, чтоб вернее захватить заговорщиков. Со стороны принца Антона, т. е. со стороны Остермана, явились попытки привлекать гвардейцев на свою сторону благодеяниями. Принц велел позвать к себе капитана Семеновского полка, ревностного приверженца Елисаветы, и в присутствии генерала Стрешнева, зятя Остермана, спросил: «Что с тобою? Я слышу, ты грустишь, разве ты недоволен?» Капитан отвечал, что имеет причины грустить: у него большое семейство и маленькое имение, далеко, около Москвы, что лишает возможности извлекать из него доход. «Я ваш полковник, – сказал на это принц, – и хочу, чтоб вы благоденствовали и были моими друзьями; обращайтесь ко мне с откровенностью, и я всегда буду поступать так, как теперь». При этих словах принц подал ему кошелек с 300 червонцами. Стрешнев был тут недаром: когда капитан вышел от принца, он подошел к нему и начал расхваливать и принца, и жену его, указывал, как вся Европа уважает их, доказательство – такой съезд иностранных министров в Петербурге, какого прежде не бывало; а цесаревна не пользуется уважением ни иностранных государей, ни своего народа, и кто не хочет попасть в беду, тот должен держаться настоящего правительства. Шетарди и Нолькен справедливо заключили, что вся эта история показывает, до какой степени дошли слабость и трусость правительства. Но в их глазах, и в противном лагере не было храбрее. Лесток объявил присланному к нему секретарю Нолькена, что ему нельзя больше бывать у посланника, что как скоро он придет к нему, то будет арестован при выходе; даже у себя, разговаривая с секретарем, он обнаруживал сильное беспокойство: при малейшем шуме на улице он кидался к окну и считал себя погибшим; про цесаревну говорил, что она должна бояться яда или какого-нибудь насилия. А между тем во Франции сердились на медленность, с какою шло дело в Петербурге; министр писал Шетарди: «Дело Елисаветы нечувствительно клонится к упадку; она действует так, как будто переменила намерение, в чем не смеет, однако, признаться; я не могу скрыть своего опасения, что Елисавета отступит в ту самую минуту, когда шведы приступят к делу; это подвергнет страшной опасности шведские предприятия и чрезвычайно повредит нам; с одной стороны, не будет никакой диверсии в пользу шведов от волнения приверженцев Елисаветы, с другой – нарекания падут на нас, потому что мы побуждали Швецию высказаться и действовать».
Шетарди складывал вину на Нолькена, который подал своему двору слишком много надежд, на робость Лестока и Елисаветы. «Напрасны старания вылечить людей от страха», – писал он. Во второй половине мая один из агентов Нолькена приходил сказать ему, что гвардейские офицеры выходят из терпения и просят выразить цесаревне, что ее молчание удивляет их, что она должна разъяснить им, как они могут услужить ей. В начале июня гвардейские офицеры, подстерегая минуту говорить с цесаревною, приступили к ней в Летнем саду, и один начал говорить: «Матушка! Мы все готовы и только ждем твоих приказаний, что наконец велишь нам». «Ради бога молчите, – отвечала Елисавета, – чтоб вас как-нибудь не услыхали; не делайте себя несчастными, дети мои, не губите и меня. Разойдитесь, ведите себя смирно: время еще не пришло; я велю вам тогда сказать заранее».
Нолькен уезжал и на прощальной аудиенции у Елисаветы употребил все свое красноречие, чтоб убедить Елисавету дать ему письменное обязательство, совершенно необходимое для него как оправдательный документ, на основании которого он мог решительно говорить в Стокгольме, – и все понапрасну. Елисавета относилась очень холодно к делу, давала заметить, что не помнит хорошенько, в чем оно состоит, что Лесток неясно передавал ей содержание требований Нолькена. Тот с удивлением заметил, что копия, писанная Лестоком месяца три тому назад, находится у нее на руках. Елисавета отвечала, что не знает, где теперь эта бумага. «Подлинник у меня в кармане, – сказал Нолькен, – и в одну минуту дело может быть окончено, потому что стоит только вашему высочеству подписать и приложить свою печать». Но Елисавета отвечала, что теперь она этого не может сделать, потому что тут находится придворный, на которого она не полагается. Отказываясь дать письменное обязательство, цесаревна уверяла Нолькена в своей благодарности Швеции за ее доброе расположение, уверяла, что первые движения с шведской стороны произведут немедленное. действие в России, что она ждет только этой минуты, чтоб положить конец предосторожностям, которые принуждена соблюдать теперь. Нолькен хотел убедиться по крайней мере, действительно ли партия Елисаветы сильна и ждет первого движения со стороны шведов: он спросил, точно ли капитан гренадеров, получивший 300 червонных от принца Брауншвейгского, встретил ее несколько дней тому назад на дороге и предлагал ей располагать его ротою; точно ли между 160 гвардейскими офицерами 54 готовы стоять за нее. Елисавета отвечала утвердительно и обещала за себя и за свою партию действовать мужественно, как скоро шведы доставят возможность действовать наверное. На прощание она сказала, что на другой день пришлет к Нолькену Лестока; посланник надеялся, что медик привезет письменное обязательство; Лесток приехал, но желанной бумаги не привез: привез только письмо для доставления племяннику Елисаветы, герцогу Голштинскому.