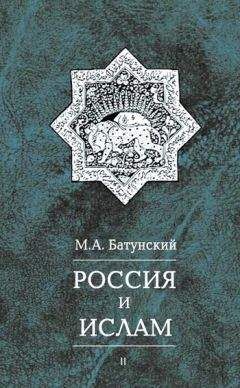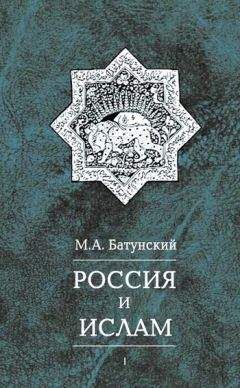Ознакомительная версия.
Более того: Ханыков и колониализм – причем не один лишь русский, но и западноевропейский – рассматривает как продолжение исламо-христианского единоборства.
«…Теперь уже, – с радостью пишет Ханыков, – мусульманский фанатизм погасает: с севера и юга христианство под знаменами Англии, России и Франции все более и более успокаивает его порывы, так что в настоящее время Алжир и Кавказ представляют две единственные точки земной поверхности, на коих проливается кровь во имя и славу мединского пророка»218.
Любопытна и еще одна статья Ханыкова – «О мюридах и мюридизме» (сборник газеты «Кавказ», первое полугодие 1847 г., Тифлис, 1847 г). Советские исследователи творчества Ханыкова так характеризуют ее.
Публикацией этой статьи Ханыков «преследовал вполне определенные задачи, прямо или косвенно выдвинутые перед ним царской администрацией, крайне заинтересованной в быстрейшем подавлении очага сопротивления среди дагестанских горцев, в дискредитации идей борьбы против войск Российской империи». Но тут же Халфин и Рассадина пытаются доказать, что ханыковская аргументация «лишена какого-либо примитивизма, стремления унизить, высмеять противника. Ее направленность обращена против едва ли не самого уязвимого места мюридизма – разжигания религиозного фанатизма, стравливания людей на почве религиозной нетерпимости»219.
В доказательство приводится – как «яркая и красочная» – следующая цитата из статьи Ханыкина, где описываются кавказские мюриды:
«…C Кораном в руке и с возгласами о притеснении веры врагами ее он (мюрид) соединяет вокруг себя многочисленных последователей и требует от них на основании правил тариката не только бессмысленного повиновения, но и легко может подвергнуть их на кровавые подвиги борьбы с христианскими властями…»220.
Дабы еще более дискредитировать мюридов, Ханыков обвиняет их в узкокорыстных интересах:
«Под видом защиты веры и сохранения исламизма тысячи гибнут в неравном споре, не замечая того, что они защищают не Коран, а жертвуют своим счастьем и спокойствием своей родины для поддержания властолюбивых замыслов учителя, пользующегося неведением и легкомыслием их, чтобы дорогою ценой человеческой крови купить себе преходящую и суетную известность и ничтожный почет перед своими единоплеменниками…»221.
И тем не менее, сколь ни сильна была неприязнь Ханыкова к исламу222, он – этот видный правительственный эксперт – ясно понимал необходимость не только вести линию на «разделение мусульманства по двум главным сектам исламизма», т. е. на суннитов и шиитов, но и признать гласно и официально свободу отправления мусульманской религии за Кавказом и в пределах империи, с тем чтобы «отнять возможность недоброжелающим нам людям распространять вредное для нас мнение, что мы хотим искоренить исламизм»223.
Это была, впрочем, вполне обычная для правящих кругов России первой половины XIX в. мысль, – мысль, четко отражающая многовековую политику по отношению к отечественному исламу вообще (особенно со второй половины XVIII в.), но показавшаяся особенно необходимой в период восстания Шамиля. И потому-то натяжкой – я бы даже сказал больше, ничем не оправданной идеализацией Ханыкова – звучит такая фраза о нем:
«В условиях николаевского режима нужно было обладать гражданской смелостью (а может быть, и некоторой долей наивности), чтобы проектировать существенное расширение прав мусульманского духовенства, принятие его содержания на государственный счет и признание свободы исповедования ислама не только «за Кавказом», где это могло диктоваться конъюнктурными соображениями, но и повсеместно «в пределах империи»224.
Все тем же прагматизмом – и прагматизмом, надо признать, оказавшимся весьма эффектным (причем и тут вовсе не следует преувеличивать «уникальность» ханыковских предложений), – продиктованы соображения о предоставлении мусульманскому населению определенного самоуправления. Хотя опять-таки преувеличением кажется тезис Халфина и Рассадиной, согласно которому Ханыков, будучи «высококультурным, гуманным человеком» считал, что «контроль над духовной жизнью мусульман со стороны их духовенства будет менее обременительным, чем со стороны царских властей», что он, Ханыков, «стремился в какой-то степени облегчить жизнь местного населения, в данном случае мусульманского, ослабив воздействие на него продажности, взяточничества, вымогательства… царского административного аппарата…»225.
Но в то же время нам важно указать и на перманентное расширение в разножанровой (и специальной и «профанической») литературе сферы многозначности термина «Ислам», и на какие-то – пусть пока во многом латентные, спорадические, противоречивые – попытки отойти от традиционной разобщенности двух пластов – русско-православного и ориентально-мусульманского.
Несомненно, в том же русле шли – опять-таки, быть может, всецело объективно, – многие наблюдения уже упоминавшегося Егора Казимировича Мейендорфа. Он, разумеется, весьма критически относится ко многому, увиденному в Хиве226 и Бухаре, где «ложь расценивается как талант, недоверие как обязанность, притворство как добродетель, не могут существовать радости искренней дружбы, неизвестны откровенность и доверие»227, где «недостаток просвещения… препятствует… развитию мануфактурной промышленности»228 и т. д. и т. д.
Но гораздо более примечательно то, что Мейендорф обращает внимание на обратную зависимость между степенью влияния институционализированного ислама и масштабами разгула ханского деспотизма.
Хан (он же – эмир-ульмуминин, глава правоверных) «объединяет в своих руках всю власть и распоряжается жизнью и имуществом подданных. Но на решения ханов почти всегда оказывают большое влияние бухарские улемы. Чем первые благочестивей, тем более растет могущество последних и тем более смягчается деспотизм»229.
Мейендорф, правда, призывает все-же помнить о главном – о том, что в Бухаре «дух правления носит печать самого возмутительного произвола»230. Но тут же он вновь указывает на одну из важнейших причин: недостаточно прочный статус мусульманского духовенства.
«Константинопольские султаны, – пишет Мейендорф, – обязанные улемам титулом халифа, должны предоставлять им в качестве эквивалента неограниченную власть. А так как в Бухаре другое положение вещей, то тамошнее духовенство не достигло такой степени могущества»231. И хотя в Бухаре духовенство «всегда оказывает большое влияние на фанатичное население», однако это – «класс, который не несет никаких других общественных обязанностей» и в который не стремятся «знатные люди»232.
Но хотя улемы косны, религиозное образование весьма архаично (муллы, «тщеславясь своим бесполезным знанием, презирают всякого, кто им не обладает… Никчемные споры о смысле стихов Корана, о положениях, которые никто не смеет опровергать, чтение более или менее точных переводов из некоторых трудов Аристотеля – вот в чем состоят занятия бухарских философов»233), все же духовное сословие вызывает у Мейендорфа больше симпатии, нежели «отбросы нации» – правительственные чиновники234.
Мейендорф критически настроен к исламу, который «оказывает очень большое влияние на быт исповедующих его народов»235 (при этом зафиксировано: «все, что делает халиф, все, что происходит в Стамбуле, вызывает восхищение мусульман в Бухаре»236), значительно их к тому же нивелируя237.
До мозга костей европеизированного Мейендорфа возмущает, что:
– «Мусульманин мнит себя безупречным, если исполняет предписания, содержащиеся в Коране и в комментариях к нему, заменяющих собой кодекс законов. Ему чужды более глубокие нормы поведения, диктуемые нам совестью и честью»;
– «бухарцы более чем суеверны, и правительство не пренебрегает ничем, чтобы поддержать в них это чувство»;
– «в Бухаре имеет силу закон, воспрещающий кяфирам одеваться одинаково с правоверными»;
– вообще там процветает «нетерпимость», вследствие чего «ни одна религия, кроме ислама, не может открыто исповедоваться»238;
– вообще мусульманская религия внушает «предрассудки и фанатизм»239.
Но вину за все это Мейендорф больше склонен приписывать не исламу как таковому и даже не «классу духовных особ», а бухарскому правительству, которое:
– и покровительствует обращению в ислам, воображая, будто совершает «весьма богоугодное дело»;
– и разжигает конфессиональный фанатизм;
– и «в противоречии с духом ислама» стремится «управлять религиозным поведением каждого»240.
Этот ход понятен с точки зрения внешнеполитических программ царизма (умным и исправным служакой которого был Мейендорф); прежде чем подчинить своей прямой (или косвенной) власти какой-либо мусульманский регион, оно предпочитало представить главным врагом и его коренного населения и России (как олицетворения лучших черт «европейской образованности») тамошнюю политическую власть, а не религию. Ислам же становился главной мишенью для атак позже, когда надо было либо смирить шедшие под его знаменем антиколонизаторские движения, либо создать культурный плацдарм для укрепления и расширения официально-русской идеологии, нередко в свою очередь преподносимой как реэкспортированная из Европы – через Россию – в «нецивилизованную Азию»241.
Ознакомительная версия.