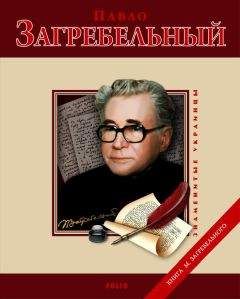Ознакомительная версия.
Кратковременная вспышка, ее хватило только на то, чтобы Генрих отважился избрать себе новую императрицу. Сразу после обрученья опять ощутил в себе упадок сил. Он еще надеялся на чудо, на лето, на щедрость жизни, шел к свадьбе упорно, вслепую, навеки отослал от себя единственного свидетеля своей безудержной молодости и своего нынешнего унижения Заубуша, и ничего! Боялся жены, не делил с ней брачное ложе и не надеялся разделить, а теперь, когда она перед всеми ударила себя ножом, боялся взглянуть на нее, о чем-то спросить, обменяться хотя бы словом.
Спасение искал там, где испытал самое большое поражение: во встрече с послами, с Заубушем, с русским, дивной красоты пришельцем, в пировании неудержимом, безмерном, диком, чтоб до самого утра. Императрица не выдержала, ее отвели в постель, а император еще сидел за столом, и бароны его сидели, он хотел остаться среди мужчин, показать, какой он сильный и бравый, как может перепить всех, а когда под утро свалился пьяным-пьяный и вовсе уж изможденный, то приказал отвести себя не в императорскую спальню, страшными наказаниями угрожал тем, кто осмелился бы побеспокоить, разбудить Адельгейду.
Спал иль не спал он в пьяном угаре? Ему привиделось, будто держит он в объятьях могучую женщину, женщина стонет сладострастно, стонет обессиленно, рвет ему сердце стонами, наполняет наслаждением и гордостью за его мужскую силу... Обливаясь потом бессилия, словно при смерти, он пробудился, сначала долго не мог понять, где он и что с ним, вспомнил женщину в объятьях, подумал, что был это сон, но снова отчетливо послышались ему сладкие стоны, непрерывные, назойливые, болезненные; Генрих вскочил на ноги, метнулся по палате, подбежал к узкому высокому окну, выглянул в залитый солнцем двор замковый, мутными глазами скользнул по каменным карнизам. Весь забился от бешенства. Под окном пара голубей захлебывалась от любовных стонов, миловалась, отряхивала перья. И под его окном, и дальше, и ниже, на всех карнизах, на каменных выступах играли в солнечных лучах голуби, стонали, гулили, захлебывались полнотой счастья.
- Заубуш! Барон! - заревел император так, будто барон не отлучался и на день, не пропадал где-то целых полгода, будто и не было намерения спровадить его навсегда.
И барон, подобно верному псу, который все простил своему хозяину только за то, что сподобился снова спать у хозяйского порога, мгновенно явился, откуда-то из глубины дворца, застучал по каменному полу деревяшкой, показался в дверях.
- Сто тысяч свиней! Кто побеспокоил так рано его величество?
- Лучников! - белесыми глазами уставился на него Генрих. - Расставить по двору, на стенах, на башнях лучников и приказать им стрелять в голубей, выбить всех до единого. И вокруг дворца, и в Бамберге, и всюду, где буду! Бить этих тварей, жирных, мерзких, вражьих...
Барон приковылял к окну, выглянул во двор, прислушался, все понял.
- Не стоят воши печеной эти голуби, император.
- Перебить всех. И чтоб не прилетел сюда больше ни один! Держать лучников в готовности всегдашней, с натянутой тетивой, - так велю!
Императрица, освеженная сном, бродила по дворцовым залам и комнатам среди спящих людей, беспорядка и запустения. Вошла в покой, где стояли император и Заубуш, не замеченной ими, услышала последние слова Генриха, молча подошла к окну, выглянула, как перед тем император и Заубуш, сказала, ни к кому не обращаясь:
- На окна садятся ангелы, и грешно их прогонять...
Барон предусмотрительно исчез, Генрих никак не мог сообразить, откуда взялась здесь Адельгейда.
- Адельгейда... - пробормотал он смущенно.
- Как вам спалось, император? - спросила она ласково.
- Император не спит, он и ночью исполняет свой долг...
- Перед кем? - полюбопытствовала она теперь уже лукаво.
- Перед государством.
- Это трудно?
- Весьма.
- А перед жизнью?
Он не понял.
- Что - перед жизнью?
- Исполнять обязанности перед жизнью, я хотела сказать.
- А что такое жизнь? - уже сердито поинтересовался он.
- Жизнь - это полнота времен. Полнота сущего. Радость.
- Радость - это власть.
- Какая радость от власти? Одна лишь усталость.
Он взглянул на нее встревоженно. Откуда она знает? Угадывает или уже все поняла?
- Жизнь сама по себе ничего не стоит, - пробормотал он. - Ценность придает ей содержание деяний, наполненность высоким.
Она его не слыхала. Говорила, как будто сама с собой, неслышно проплыла от дверей к окну, в белом длинном платье, горностаи наброшены на плечи, ребенок и императрица, нежность и мудрость.
- А знают люди то, что трава знает о земле, птица о небе и зверь об одиночестве? - прошептала горько и пропала, оставив императора в растерянности.
ЛЕТОПИСЬ. ПУСТЫЕ ГОДЫ
Когда тебя двенадцатилетней увезли с родимой земли, забросили в мокрые горы, лишили надежд, довели до отчаянья, когда ты вроде бы навсегда затерялась в тех горах, а судьба вдруг спасла тебя от забвенья и подняла на высоту - можно и оглянуться, есть и на что поглядеть, но... но что же увидишь там, на высоте? Для тебя - пустые годы, дни без событий, зря потраченное время, а для людей? Чужое слово "Европа" не давало тебе ничего, но было еще - червонное - слово "Русь", был Киев зеленый, было незабываемое, навек утраченное, а теперь будто снова душой обретенное (с прибытием посольства из Киева, от отца, Всеволода).
Летописец русский, не имея что сказать о некоторых годах, напишет так: "В лето 6429. В лето 6430. В лето 6431. В лето 6432. В лето 6433. В лето 6434. В лето 6435. В лето 6436. В лето 6542. В лето 6543. И никаких происшествий. Ничего. Пустые годы... Реки выходили из берегов, солнце нещадно палило, голод стоял по земле, мор налетал, мерли люди, горели села и города, плакали матери над сыновьями - для летописца то были пустые годы, раз не задевало эдакое ни князей с епископами, ни бояр с воеводами.
Шесть лет жизни в Германии Евпраксии тоже казались пустыми. Не знала ни несчастий, ни радостей немецкого люда, не углублялась в происходящее вокруг, замыкалась в собственной беде; сама страдала и считала, что должен страдать весь мир, потому и годы эти могли бы еще зваться годами страданий.
Но вот прибыло посольство из Киева, приехал Журило, с которым когда-то собирала цветы, ловила мотыльков, слушала сказки про чеберяйчиков; вместе боялись темноты, вместе бегали по таинственным закоулкам Красного двора, сооруженного князем Всеволодом; а теперь Журило - дружинник и посол киевского князя. Журило жил все шесть лет в Киеве, он там все знает, про все может рассказать, заполняя шестилетнюю пустоту, переносить которую нет больше никаких сил.
И Журилу позвали к императрице.
Двор императорский остался в Бамберге, о чем в хрониках сохранится единственное упоминание: император по представлению жены и епископов Рупрехта Бамбергского и Удальриха Эйхштадского одарил министериала бамбергского Майнгера. Больше ничего. Еще не было вражды между Евпраксией и Генрихом, еще не утратили они надежд. Двор, как и надлежало, разделился на две части, две половины; мужская тянулась к императору, женская - к императрице; разделение было выгодно Генриху, не устраивало и обижало молодую императрицу, но в конце концов и она извлекла из этого положения кое-какую пользу, могла сосредоточиться на себе, на своем прошлом, а прошлое, известно, всегда при нас, и полезно оно тем, что человеку легко сопоставить память о своем прошлом и свое нынешнее горе.
...Позвали, значит, к императрице Журилу.
Была там Журина, которая опять не решилась подойти при всех к сыну, выразить материнские чувства, были придворные дамы, которые, казалось, полностью превратились в глаза и уши, впитывали каждое словечко, каждый взгляд, малейшее движение, все старались уловить хотя бы какой-нибудь намек на нечто греховное, что было, ну, ясно же, было между императрицей и этим молодым, на диво красивым чужаком - недаром ведь от одного только взгляда на него Адельгейда поранила себе руку.
Ничего не поняли, ничего не заметили, ничего не уловили.
Расстояние, холод, торжественность.
Императрица восседала на высоком стуле, который должен был служить троном, придворные дамы теснились понизу на переносных ременных стульцах, Журиле стула не подали, хотя послу такого большого властителя, каков киевский князь, оказывали честь, разрешая сидеть и перед самим императором.
Перед императором, но не перед императрицей. Перед столь сановной женщиной должно стоять всем мужчинам.
Журило стоял весело, беззаботно, пожимал широкими плечами, потряхивал пышными своими кудрями. Удивлялся: ужель эта холодная, неприступная молодая женщина в золотой короне Евпраксия, Пракся, с которой он... Эх, лучше уж не вспоминать, а молчать или говорить лишь то, что хотят от него услышать.
- Что же говорить? - спрашивал почти дерзко, как и подобало избалованному женским вниманием красавцу.
Если б Евпраксия знала, о чем спрашивать! Зато знал Журило. Раз княжна, то и знать ей нужно о князьях. О братьях, об отце и о дядьях, да матери, да святых отцах, да... Ну, так значит... Когда поехала она сюда, из греков прибежал в Тмутаракань Олег Святославич, бросил в поруб братьев Ростиславичей - Давида и Володаря, посек козаров, которые допреж того заслали его к ромеям, Ростиславичей потом выпустил и засел в Тмутаракани, а Ростиславичи кинулись на Русь, прогнали из Владимира Ярополка Изяславича, тот побежал к князю Всеволоду просить помощи, великий князь послал сына своего Владимира Мономаха с дружиной, ну, прогнали Ростиславичей и снова посадили Ярополка во Владимире. Тогда и он, Журило, ходил с дружиной. А через год Ярополк, поддавшись злым наветам, пошел супротив самого великого князя Всеволода, и снова послали под Луческ молодого князя Мономаха, и снова Журило ходил туда с дружиною, Ярополк утек к ляхам, а они взяли Луческ и матерь Ярополкову Гертруду, и жену его Ирину, и близких Ярополковых людей привели в Киев в полон, что ли. Еще год минул, как Ярополк пришел и стал мириться со Всеволодом. Снова отдали ему Луческ, - а Мономах возвратился в Чернигов. Но не угомонился Ярополк, пошел на Звенигород, а в пути, когда он спал на возу, набежал на него какой-то Нерадец, вогнал ему в сердце меч и побежал так быстро, что никто и опомниться не успел. Соскочил Ярополк с воза, вырвал меч из раны, закричал отчаянно: "Ох, ты же меня, вражина, доконал!" И помер. Ну, привезли его в Киев, положили в раку из мрамору, оставили лежать в церкви святого Петра, что сам и воздвиг по подсказке матери своей Гертруды, она же римской церкви святого Петра молилась... Вот и все.
Ознакомительная версия.