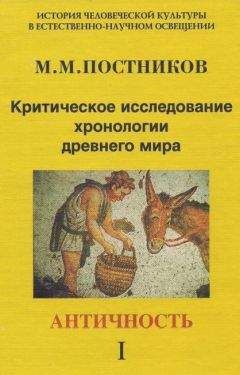Единственное, что остается, это несколько этиологических мифов для объяснения прозвища Ahala и изображений на родовых монетах Авгуринов» ([35], стр. 29).
Обратим внимание, что здесь Мартынов опровергает данные нумизматики. О доказательственном значении нумизматического материала мы в своем месте еще подробно поговорим.
Невероятно, но «Почтенный Ливиец» путается в самых основных фактах о структуре государственной власти в Риме. «Ярким примером отсутствия летописной основы в рассказе Ливия является незнакомство его с римскими учреждениями, даже такими значительными, как, например, народный трибунат. Здесь по поводу числа трибунов мы встретим самые поразительные, самые неожиданные разногласия. Противоречия эти начинаются с самого возникновения этого учреждения… Возьмем еще пример. При общественных бедствиях, в случае какого–либо грозного предзнаменования, сильного морового поветрия и т.д. у римлян назначался диктатор clavi figendi clausa. Назначение его заключалось в одном только вбитии гвоздя; по исполнении этой церемонии он складывал с себя свою должность. Оригинальность этого обряда, его очевидная древность, наконец, убеждение римлян в его таинственном и чудесном влиянии сильно заинтересовали Ливия. Однако в объяснении его происхождения он впадает в странные противоречия. По его мнению, гвоздь этот служил вследствие малого распространения письменности в те отдаленные времена показателем числа лет. Первым, вбившим гвоздь, он считает консула Горация, освятившего храм Юпитера Капитолийского в первый год республики…» ([35], стр. 29—30). Впрочем, по этому поводу можно заметить, что, возможно, последнее противоречие мнимое и возникло только потому, что Мартынов считает, что в то время письменность уже прочно вошла в быт римлян. Но ведь, может быть, Ливий здесь прав?
Продолжая список примеров, Мартынов пишет: «Такое незнакомство с римскими учреждениями встречается у Ливия на каждом шагу. Например, при учреждении диктатуры, по свидетельству Ливия, был установлен закон, по которому избираемы были на эту должность только лица, бывшие консулами. Однако тут же, в 255 году, Ливий называет диктатором А. Постумия, никогда прежде эпонимом не бывшего. Децемвират, по словам Ливия, должен был служить для уравнения прав патрициев и плебеев посредством законов, однако по многим причинам видно, что назначение его совсем другое…» ([35], стр. 30).
Мартынов подробно излагает всю дошедшую до нас информацию об аппарате децемвирата и подводит итог: «Таким образом, мы видим, что Ливий объясняет смысл децемвирата неверно и что дух этого римского учреждения, равно как и многих других, для него непонятен. Мы перечислили до сих пор доводы, говорящие против правдивости показаний Ливия, т.е., другими словами, против предположения, что рассказ его основан на синхронистических записях. Требования, предъявлявшиеся римлянами к историографии, были весьма отличными от наших; взгляд их на задачу историка был совсем другой, но и они чувствовали недостоверность начального периода римской истории несмотря на то, что они допускали риторические прикрасы рассказа, в виде вымышленных известий…» ([35], стр. 30).
Мартынов правильно формулирует принципы, которыми следует руководствоваться при изучении «древних свидетельств»: «Когда единственным следом какого–нибудь события является занесение его в летописи, притом ему несовременные, то достоверность его является в наших глазах весьма проблематичной. Мы требуем, чтобы это событие было отмечено очевидцем, но, даже в таком случае, ставим следующие, указанные еще аббатом Пулье условия доверия к нему: 1) чтобы было основание думать, что этот очевидец мог быть знаком с тем фактом, который он передает; 2) чтобы он не был заинтересован в ложном его истолковании. Но что же делать, если относительно какой–нибудь эпохи почти нет показаний современников, если даже дошедшие до нас обрывки летописей полны всевозможных искажений? В таком случае надо посмотреть, не оставило ли то или другое историческое событие какого–нибудь вещественного доказательства своего существования» ([35], стр. 31—32).
Мартынов отмечает те места в тексте Ливия, которые можно было бы попытаться проверить обнаружением сохранившихся вещественных следов; одним из таких следов он предполагает статуи, описываемые Ливием, пожалованные гражданам. «Не следует, однако, преувеличивать значения всех этих документов, как пособников исторической критики. Многие обстоятельства указывают нам их несостоятельность в этом направлении. Прежде всего отметим, что хотя мы и встречаем у Ливия случаи постановки статуй, однако на них надо смотреть как на редкие исключения… Наконец, и это самое важное, мы не можем быть уверены в действительности существования всех тех монументов, статуй, памятных досок и т.д., о которых упоминает Ливий. Дело в том, что Ливий, несомненно, многих из них даже не видел. Мы нигде не находим у него следов того, чтобы он лично исследовал их, изучал, словом, использовал в историческом отношении. Если же мы и встречаем у него указания на различного рода вещественные памятники, то это значит единственно лишь то, что упоминание о них он нашел в своих источниках, у того или другого анналиста… Посмотрим, например, как относится он к полотняным книгам, открытым Лицинием Макром в храме Юноны Монеты (т.е. памятливой). Бофор указал нам их ничтожное значение как памятника неофициального, но во времена Ливия на них смотрели совершенно иначе. Ливий ссылается на них совершенно так же, как на фасты, относится к ним с полным доверием и неоднократно приводит их показания. И, несмотря на такое крупное значение их, из рассказа Ливия явствует с полной очевидностью, что он ни разу не заглянул в libri lintei. Впрочем, он сам этого нисколько не скрывает: всюду, где он упоминает о них, он ясно указывает, что знаком с ними исключительно через посредство Лициния Макра. Для нас эта черта совсем непонятна: как можно пренебречь личным освидетельствованием столь значительных памятников, имея на то полную возможность? (А была ли у Ливия эта возможность? — Авт.). Так, Лициний Макр приводит имена консулов 310 г. — Л. Папирия Мугиланского и Л. Семпрония Атратина, которые он нашел в подлинном тексте договора, заключенного с ардеатами, и в полотняных книгах. Нигде, по признанию самого Ливия, ни в древних летописях, ни в книгах магистратов нет их имен. При таких условиях так понятно желание лично просмотреть эти документы и собственными глазами убедиться в правильности сообщаемых Лицинием сведений, но Ливий чужд этой любознательной пытливости и в libri lintei не заглянул ни разу. Что может быть интереснее, чем spalia opima Корнелия Косса с надписью на них, дающей возможность опровергнуть показания всех писавших до Ливия анналистов? Но и тут Ливий не изменяет своей привычке; он не потрудился пойти лично списать эту в высшей степени любопытную надпись и ограничивается только тем, что приводит слышанное им от императора Августа, которому принадлежит честь этой находки. Припомним к тому же подделанную надпись на изображении Л. Минуция Авгурина… что для фонологического указателя приходилось даже прибегать к вбиванию гвоздя… и мы поймем, что в течение первых четырех столетий римской истории нельзя рассчитывать на то, чтобы вещественные памятники оказали нам существенную поддержку при решении вопроса о достоверности рассказа Ливия. Со вступлением Ливия в период, более близкий ко времени первых римских анналистов и, вообще, более достоверный, мы уже гораздо чаще имеем возможность проверить показания Ливия наличием тех вещественных памятников, о которых он упоминает» ([35], стр. 34, 36).
Однако когда Мартынов переходит к конкретным примерам, «подтверждающим» описание Ливия в «более достоверный» период, то оказывается, что с примерами дело обстоит плохо. Он приводит только два примера: Аппиеву дорогу, которую упоминает Ливий, и небольшой храмик (выражение Мартынова) богини Согласия. На этом «подтверждения» заканчиваются.
Далее снова следуют признания нашего историка о тяжелом положении, сложившемся с книгами Ливия. «Не всегда, однако, вещественные памятники, дошедшие до нас от той отдаленной эпохи, подтверждают рассказ Ливия, случается иногда, что, наоборот, они служат нам доказательством его неверности» ([3.5], стр. 35). Так оказалось, что обнаруженная «гробница Сципионов» с двумя саркофагами и надписями на них показывает, что «Ливий и все анналисты, показаниями которых он пользовался, как раз перепутали консульские провинции и вследствие этого дали совершенно неверные описания походов римлян в этом году» ([35], стр. 35).
Когда Мартынов пытается выяснить, какими источниками мог пользоваться Ливий, он ничего, кроме туманных предположений, не может предложить читателю. Самое поразительное, что в сложившейся ситуации Мартынов предлагает обратиться как к последнему средству проверки достоверности Ливия к устному преданию (!?).