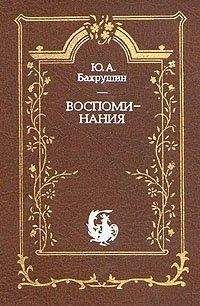Па другой день, поутру, наскоро позавтракав в номере, мы отправились на rue Voltaire, на эту своеобразную смесь парижских Сухаревки и Китайгородской стены. На просторной, но довольно пустынной набережной Сены на тротуаре рядом с парапетом стоят лотки букинистов и старьевщиков, а на другой стороне в домах расположены антикварные торговли всех разрядов и эстампные лавки. Мы с отцом перекидывались для разнообразия с одной стороны набережной на другую. У торговцев на самой набережной отец копался в разном барахле, изредка извлекая оттуда что-либо интересное, и, быстро сторговавшись, покупал «на грош пятаков». Обход антикваров был куда более сложен. Начинался он с подробного изучения витрины, затем следовал столь же детальный осмотр самого магазина. Иногда отец усматривал что-либо для себя любопытное, тогда он вдруг начинал длительную и серьезную торговлю какой-либо совершенно ему ненужной вещи. Торговля обычно шла с азартом, но с перерывами, во время которых отец между прочим спрашивал цены и других вещей. В последнем перерыве он наконец совсем уже нехотя узнавал и цену заинтересовавшего его предмета. Торговец, весь поглощенный торговлей крупной вещи, наскоро называл цену и спешил продолжить интересовавшую его негоциацию. Тогда отец прерывал беседу, говорил, что торопится и зайдет завтра, а в компенсацию за занятое время пока что возьмет вот эту вещь, указывал на заинтересовавший его с самого начала предмет и без торга платил деньги. Обычно такая маленькая хитрость удавалась блестяще, по иногда торговец вдруг соглашался на предложенную отцом смехотворную цену, и тогда в нашем доме появлялась еще одна никому не нужная вещь. Я в те времена, выросши среди музейных экспонатов, настолько в них натерся, что часто выискивал театральную вещь раньше близорукого отца и громко и радостно привлекал его внимание к находке. Помню, что после первого же подобного случая я получил строгое внушение.
— Разве так можно, — выговаривал отец, — ты так мне всю обедню испортишь. Антиквар сразу поймет, чем мы интересуемся, и заломит втридорога. Если ты что увидишь, то постарайся привлечь мое внимание как-нибудь незаметно. А остальное я уж сам сделаю.
В последующих заграничных поездках, когда я стал старше, отец уже посылал меня обычно без себя предварительно «вынюхивать», в качестве разведчика.
Отец терпеть не мог фешенебельных антикваров, торговавших на шикарных улицах в богатых магазинах, — к ним он заходил лишь по обязанности. Зато он бывал в восторге, когда натыкался на захудалого антиквара — любителя старины. С таким он немедленно заводил дружбу. Помню, как в эту поездку мы натолкнулись на какого-то старого бывшего шкипера, державшего маленькую антикварную лавчонку. После короткого объяснения па своем ломаном французском языке отец был уже с ним в дружбе. К концу посещения магазина, где, кстати, ничего интересного не было обнаружено, мы уже очутились в задней комнате, где кроме предложенного кофе нам дана была возможность обозреть личные коллекции хозяина, вывезенные им с островов далекой Океании. В конечном итоге отец за гроши сделался обладателем целого ряда чрезвычайно редких музыкальных инструментов диких племен, а также и ряда абсолютно ему не нужных вещей. Когда его впоследствии спрашивали, зачем он все это накупил, он отвечал:
— Да уж больно человек приятный продавал.
В следующую нашу поездку в Париж отец был искренно расстроен, когда нашел торговлю своего минутного приятеля закрытой и узнал от соседей, что он умер.
Сделав краткий перерыв на обед, мы продолжили свой обход до закрытия магазинов. Такие экскурсии повторялись несколько дней кряду, перемежаясь с вылазками в книжные лавки, где, кроме книг но театру, отец выискивал политические карикатуры на Россию. Иногда он покупал полные горы журналов, чтобы вырвать из них лишь несколько листов, касающихся России. С таким же рвением он закупал и открытки с политическими карикатурами, а в то время, в конце японской войны и в начале революции 1905 года, заграница была ими наводнена. Изредка мы посещали музеи и художественные магазины.
От посещения Лувра в моей памяти осталась невероятная усталость ног, сумбур в голове и Венера Милосская на фоне синего бархата. Люксембургский музей я помню меньше, чем дворцовый сад при нем, чуть тронутый тогда первым дыханием осени. Впрочем, как-то врезалось в памяти впечатление, оставленное англичанами Уистлером и Соржентом.
Мы пробыли в Париже тогда недели две, а затем направились на юг в Биарриц, где мать хотела покупаться в океане. Прибыли мы в этот курорт к вечеру, и все поиски свободной комнаты в гостиницах оказались тщетными. Курорт был переполнен. Отец нервничал и ругался, а мы с матерью, усталые от дороги, были в отчаянии. В безнадежном настроении мы брели по улице к очередному не обследованному нами отелю, число которых делалось все меньше. Вдруг на углу какой-то улицы мы столкнулись с шикарно одетым мужчиной в пенсне, с тщательно расчесанными холеными короткими бакенбардами. Он радостно поздоровался с моими родителями, которые поведали ему свои злоключения.
— Устроить вас в отель? Нет ничего проще, — сказал господин и, оживленно разговаривая, повел нас за собой.
Это был Вас. Ив. Немирович-Данченко. Он сдержал свое слово, и через полчаса мы имели уже комнату в самом шикарном отеле Биаррица, на берегу океана, в бывшем дворце Наполеона III. Нам сдали спальню злополучного императора с огромнейшим парадбеттом под балдахином, с императорскими орлами и инициалами. Разумеется, что мы спали на этой постели втроем, так как, несмотря на это, на ней еще оставалось место человек на семь.
На другой день мы устроились уже в другом отеле, так как платить за номер по триста франков в сутки, то есть почти но сто рублей золотом, было более чем безрассудно, да и обременительно.
В Биаррице мы вели спокойный образ жизни. Там не было ни антикваров, ни музеев, ни магазинов, которые можно было бы посещать. Обычно утром, после завтрака мать шла купаться в океан, а мы с отцом отправлялись на «рыбную ловлю», то есть к тому берегу, который очищал утренний отлив и который был весь изрыт ямами в скалистом дне. В этих кратковременных озерках во множестве оставалась всякая морская живность, которую я вылавливал либо сачком, либо удочкой. Приходилось для удобства снимать ботинки и чулки и влезать в воду. Отец обычно наблюдал эту картину, но иногда, увлекшись моим времяпрепровождением, нимало не смущаясь и к великому удовольствию окружающих, сам снимал ботинки и носки и, закатав брюки, лез в воду, чтобы принять участие в ловле самолично. '
Среди дня мы отправлялись обедать в какой-то хороший ресторан. Помню инцидент, который произошел в первое наше посещение этого заведения. Заказав обед, отец потребовал себе «Eau de vie russe». Метрдотель произнес свое величественное «C'estfa!» и черкнул что-то в своем блокноте. Подали суп, а водки нет. Отец потребовал вторично. Официант пришел в замешательство и вызвал метрдотеля, который, извинившись, сейчас же принес ликерную рюмку и бутылочку, из которой и наполнил поданную миниатюрную посуду, после чего хотел удалиться вместе с бутылкой. К его великому удивлению, отец потребовал рюмку втрое больше и оставление бутылки на столе. Кроме того, он попросил что-нибудь закусить, liors-d'oeuvre. Желание его немедленно было исполнено, и на закуску ему подали… кусок чудесной дыни с сахарным песком. Отец рассмеялся и распорядился подать ему дыню к концу обеда, а пока что дать хоть коробку сардин. В другой раз, прельстившись подаваемым другим посетителям лангустом, от которого французы вкушали лишь два-три тонких ломтика шейки, мы с отцом заказали себе также подобного чудовищного рака и стали есть его вдвоем. У наших соседей по столу глаза делались все больше и больше, и, наконец, кто-то из них решился нам заметить, что кушать так много лангуста опасно, что это очень вредная и тяжелая пища и что если мы не умрем, так обязательно заболеем. Мы любезно поблагодарили за участие и высказанные на наш счет перспективы и преспокойно доели нашего морского чудовища, причем никаких неудобств после этой операции не ощутили. Эти два мелких факта, незначительные сами по себе, характерны как показатели, насколько мало еще был изучен за границей русский вкус и повадки в 1905 году.
После обеда мы отдыхали в гостинице, а ближе к вечеру отправлялись пить чай в кафе на главной улице. Однажды мы были там свидетелями необычайной суетни — полицейские усиленно регулировали более чем незначительное движение, на тротуаре стояли группы прохожих. Вскоре все объяснила вереница показавшихся в конце улицы автомобилей. Это был автопробег. Машины были чудные, на высоких колесах, какие-то поджарые. Все они одна за другой остановились у нашего кафе, и участники потребовали себе прохладительных напитков. Особенно оживленно вел себя один из автомобилистов — высокий, худой молодой человек с крупным носом и толстой отвисшей губой. Официант, подававший нам заказ, счел своим долгом мотнуть на него головой и конфиденциально сообщить: «Вот тот… Альфонс XIII… король Испанский».