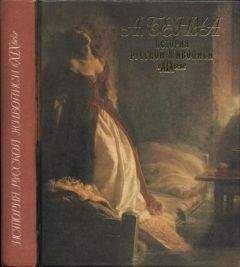Однако в этом выборе сюжета сказалось влияние не только овербековского мистицизма, но и некоторой засушенности мысли немецкого художника. Как Овербек не мог научить Иванова иным приемам, кроме как своим компилятивно-подражательным, так точно он не мог помочь ему в деле «выбора сюжета». Овербек, несмотря на весь мистицизм своих взглядов, не лучше всякого академика воображал, что можно додуматься до своей темы. Картины не представлялись его фантазии готовыми созвучиями мысли и чувства, вылившимися в определенных линиях и красках. Напротив того, он постоянно прибегал к чисто академическому и художественно-безнравственному способу: «компоновать» свои создания и выискивать сюжеты в чтении книг и в собственных размышлениях. Овербек не ждал самого драгоценного в существовании художника — вдохновения, вдохновения первой мысли, а, занятый своими тугими вымыслами, даже пропускал его, когда оно являлось. Так же точно и Иванов не стал дожидаться вдохновения, чтоб приступить к главному делу своей жизни, и он придумал сюжет для своего Meisterstück'a и затем уже фатально должен был исполнять этот тяжелый труд без животворящего вдохновения, с помощью нудного, мучительного выдумывания.
А. А. Иванов. Голова Иоанна Крестителя. Этюд для картины «Явление Христа народу». 1840 — 1850-е гг. ГТГ.
Иванов поплатился почти всей своей жизнью как за ошибки академического воспитания, так и за ошибки доброго, честного и святого, но несколько ограниченного Овербека, вся теория которого была мистической по принципу и сухой, рассудочной в своем приложении. Недостатки воспитания не позволили Иванову сразу стать выше почитаемого им главы назарейцев, перешагнуть через него.
Иванов пошел в исполнении своей картины какими-то зигзагами, постоянно отвлекаясь в сторону с прямого пути, хотя этот путь все более выяснялся в его выздоравливающей за работой душе. Время создания его картины, тянувшееся более 15 лет, в сущности, можно рассматривать как время настоящей его школы, а «Явление Христа» как «программу», которую он готовил на всемирный суд в свидетельство своей школьно-художественной зрелости, явившейся к нему так поздно и доставшейся ему с таким невероятным трудом именно потому, что настоящее время школы было им потрачено на бесполезную и бестолковую зубрежку. Он и смотрел на себя, вероятно, из-за сознания своей слабости, своей художественной неразвитости, как на ученика, и это-то всего больше и сбивало его, заставляло прислушиваться к советам совсем не понимавших его людей: холодных академиков, ограниченных назарейцев или дилетантствующих туристов. Долгое время не решался он отдаться слепо и безусловно своему внутреннему голосу, тогда как именно этот голос был бесконечно драгоценнее всевозможных посторонних мнений[58].
Находясь в Риме, Иванов беспрестанно сравнивал свою работу со всем, что было классического и наиболее высокого в этом колоссальном музее прежнего искусства, и вследствие этого вечно пребывал в каком-то «заботливом недовольстве», доводившем его часто до отчаяния. Иванов старался подойти к своим кумирам и изо всех сил бился, чтобы связать традиции с требованием полной свободы, согласить изучение натуры с заимствованиями у старых мастеров. К несчастью, он не понимал того освободительного движения, которое начиналось тогда в лихорадочно-вдохновенном Париже. Он, вероятно, видел, как некоторые французы были заняты тем же, к чему и его влекло инстинктивно, а именно борьбой с традициями вообще, но согласно с наставлениями, полученными еще дома, также с наставлениями Овербека и Гоголя, ненавидевшего французов, Иванов считал все эти «французские» затеи за разврат и не мог постичь своего духовного родства с теми героями, которые на родине Делакруа храбро боролись против рутины и отыскивали новую, живую и свободную красоту.
А. А. Иванов. Нагой мальчик. Этюд, выполненный во время работы над картиной «Явление Христа народу». 1840 — 1850-е гг. ГРМ.
Какой мужественной бодростью, страстью и негой, тонким вниканием во все оттенки прекрасного проникнуты этюды Иванова, эти непосредственные изучения природы[59], и куда девалась вся эта прелесть жизни в картине, для которой они предназначались! Приглаженные и выправленные, засушенные и окаменелые, перешли эти этюды на большое полотно, и на нем с трудом узнаешь сквозь оболочку скучного «монументального стиля» их остатки. Иванов в том преследовании старой красоты иногда очень близко подходил к ней. Иной его юноша выдержит сравнение по божественной плавности линий с флорентийским Идолино; иная спина, рука, нога, торс — с лучшими образцами древней пластики или Ренессанса; некоторые драпировки не уступят рафаэлевским. Но вся эта формальная близость к произведениям прошлого, скорее, вредит его творению, так как чужое досадливо заслоняет собственное.
Одно обстоятельство причинило ему особенно много затруднений. Дома, в школе, несмотря на весь энциклопедизм, которым кичится академическое образование, Иванова забыли обучить краскам: вглядываться в тонкость отношений их в природе, в бесчисленные их оттенки и передавать это в живописи. Здесь, в Риме, фрески Микеланджело и Рафаэля, картоны Камуччини, Овербека и Корнелиуса, а также советы трех последних также ничего не могли открыть ему в смысле красок. Между тем и в Риме стали наконец доходить в половине 30-х годов слухи о колористическом движении, начавшемся еще в 20-х годах во Франции, и вопрос о красках не был уже так категорично решаем в отрицательную сторону, как прежде. Самому Иванову казалось, что сила его картины будет зависеть от полной ее правдивости, а эта правдивость, естественно, зависела главным образом от верности красочного эффекта. Иванов, всматриваясь в великие произведения прошлого (а к тому времени он уже умел отличать истинно великие от поддельных), наконец открыл, что основные прелести их не в нагромождении драпировок и не в круглых жестах, но в том, что художники выражали в них свои мысли и чувства с полной убедительностью. Иванов отказался от эффектничанья и поставил главной целью своих стремлений заставить людей поверить своему вымыслу, заставить чувствовать себя перед картиной, как перед действительностью, и, разумеется, для достижения этого ему недостаточно было одних черных линий и монотонной раскраски назарейцев, а требовался живой, естественный колорит.
Иванов и тут не спросил сразу указаний у природы, а обратился за советами к старым мастерам. Он съездил даже специально для того в Венецию, на родину великих колористов. Но там наконец у него открылись глаза: венецианцы указали ему как на единственную свою руководительницу и вдохновительницу — на природу, которой Иванов до сих пор так пренебрегал. Послушавшись их советов, он с рвением и наивностью начинающего ученика принялся за свое коренное переобразование, однако, к ужасу своему, вскоре заметил, что уже слишком стар, чтобы учиться делу, требующему более, чем что-либо, непосредственности и свежести. От первоначального, все же приятного, хоть и лживого коричневого колорита он спустя некоторое время отрекся совершенно, но той новой красочной формулы, к которой стремился, так и не достиг.
А. А. Иванов. Оливы у кладбища в Альбано. Молодой месяц. Около 1843 — 1845. ГТГ.
Тем не менее результаты, полученные Ивановым в этой сфере, изумительны. В иных его этюдах купающихся или отдыхающих людей, освещенных лучами утреннего солнца, в иных пейзажах поражаешься смелостью и передовитостью его открытий. Судя по ним, он, должно быть, уже предвидел то, над чем работали впоследствии с успехом Мане, Моне и Уистлер. Иванов, желая найти полную правду колорита, наткнулся на такие краски, на такие отливы в тенях, на такую пестроту и новизну отношений, о которых вообще до него, во всей истории живописи, не было помину и к которым нас приучили только за самое последнее время импрессионисты. Какою смелостью и силой обладал этот скромнейший человек, чтобы перейти вдруг от подмалевок «теливердой» и «сиеной», всяких засушивающих творчество школьных рецептов прямо к ярко-голубым теням на человеческом теле, к серой, тусклой зелени на солнце, к оранжевым и зеленым рефлексам на лицах…
Но все же среди его бесчисленной массы этюдов трудно найти вполне прекрасные по краскам — такие, в которых все, что он подмечал, приглядываясь к отдельным кусочкам природы, было бы так же связано в общую гармонию, как оно связано в действительности. Ему недоставало общей проверки и широкого взгляда на вещи, той «привычки просто смотреть», которая достается художникам лишь в молодых годах и в тех только случаях, когда они отдаются одному этому, не отвлекаясь ни в сторону линий, ни форм. Моне впоследствии только потому и одолел в таком совершенстве красоту красок в природе, что бросил все заботы о рисунке и занялся исключительно отысканием красочной правды.