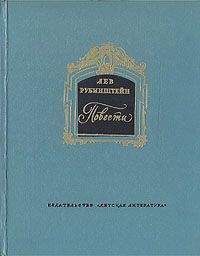— Послушай, ты, иди в нашу артель, — выпалил он.
— Несправедливо будет, ваше благородие, — отвечал Панька, вытирая рукавом пот со лба. — Игроки должны жребий метать, кому куда идти на каждую игру. А то выходит, одни всегда посильней, другие всегда послабей — да таково играть скучно!
Кинули жребий, и Панька попал в «артель» Броглио. Но сам Броглио попал в артель Пущина, и Панька стал начальником «артели». Броглио и Пущин проиграли.
— Фу, чёрт возьми, да он мастер! — сказал Броглио, хлопая Паньку по спине. — Приходи ещё играть, мон шер. Как тебя звать?
— Панька, ваше благородие.
— Ты молодец, Панька!
Игра кончилась.
— Ты дело знаешь, профессор, — сказал Пущин Паньке, — а ещё что умеешь?
— Плавать умею. В свайку умею. В бабки умею. Прыгать умею… — Панька сморщился и со вздохом закончил: — Цветы сажать умею. Розы дамасские, центифольные, французские, чайные, белые, полиантовые багрянцевые и вьюны. Также лилеи. Лилеям есть семь сортов…
Пущин поднял брови.
— Читать умеешь, профессор?
— Никак нет, ваше благородие, нам не положено.
— Это почему же?
— Которые из крестьянов, тем читать не положено.
— Что за ересь? — раздражённо сказал Пущин. — Ты не барский мужик, а дворцовый служитель. Я тебя научу.
— Их высокопревосходительство господин генерал Захаржевский будут сердиться.
— Чушь! Он и не узнает!
Учение, однако, на лад не пошло. Гувернёры косо посматривали на Паньку, и видеться с Пущиным он мог только по секрету, в зарослях, возле «кухни-руины». Наступила зима, а Панька едва выучил азбуку и еле разбирал слова по складам.
Пущин больше на свидания не приходил. Он готовился к экзамену и по целым дням переводил с латыни про Галлию, разделённую на три части. Лицейские приуныли и даже на прогулках молчали и в снежки не играли.
Экзамен состоялся после Нового года. За два дня до экзамена похудевший Пущин шепнул Паньке на ходу:
— Послезавтра с утра приходи, профессор, к дверям большого зала с лицейской стороны. Гости пойдут через парадный вход и тебя не увидят. Пушкин будет стихи читать Державину.
— А коли увидят?
— Ничего. Инспектор разрешил дверь не запирать. Только не входи в зал, а смотри в щёлку.
Панька пришёл поздно. Сторож не хотел пускать его на чёрную лестницу, по которой истопники носили дрова, но Панька сказал, что инспектор разрешил, и его пустили. У дверей большого зала толпились дядьки, все разодетые, припомаженные, в начищенных сапогах.
Панька заглянул в щёлку. У него зарябило в глазах от сияния золотых эполет, шнуров и вензелей. Зал был наполнен гостями, родителями и родственниками. За столом сидели лицейские начальники и профессора в парадных фраках. Лицеисты стеной стояли вдоль окон, все в мундирах, белых панталонах и ботфортах. Лица у них были торжественные и отчаянные.
Спрашивали Пушкина. Поэт стоял перед экзаменатором Галичем, закинув назад растрёпанную голову, и блуждал глазами по потолку и стенам. Видно было, что он страдает.
— Определите, — говорил рыхлый Галич мурлыкающим голосом, — определите, пожалуйста, каковы суть главные качества писателя?
— Главное качество писателя, — отвечал Пушкин, — есть скрытый гений, который проявляет себя в общении с музами неожиданном и высоком… Закона же тут вовсе никакого нет.
Галич торопливо затряс головой.
— Так, так, верно! Но вы забыли, господин Пушкин, ещё одно качество — чувствительность, — сказал он, — чувствительность, которая одна только имеет силу приводить нас в умиление!
Панька понял, что Пушкин ответил не то, что полагалось по учебнику. Галич повернулся всем корпусом к дряхлому старичку в синем фраке со звездою. Старичок, согнувшись, дремал в кресле и кивнул головой в полусне.
— Я полагаю, — сказал Галич, — что следует нам выслушать также опыты сего воспитанника в высоком роде. Господин Пушкин сочинил стихи под названием «Воспоминания в Царском Селе». Осмелюсь просить внимания вашего…
— Выгораживает, — сказал один из дядек вполголоса. — Галич никого топить не станет.
— Он за наших? — спросил озадаченный Панька.
— Дурень! Он справедливый!
Панька оживился. Он желал победы лицейским, как при игре в лапту.
Пушкин кашлянул и неуклюже вытащил из-за обшлага бумажку. Но он не заглянул в неё, а скомкал в кулаке и начал читать, по обыкновению, сквозь зубы, как на уроке:
Навис покров угрюмой нощи
На своде дремлющих небес…
Старичок открыл глаза, посмотрел на Пушкина удивлённо и повернул к нему левое ухо.
Пушкин читал, всё больше воодушевляясь:
Не се ль Элизиум полнощный,[22]
Прекрасный Царскосельской сад…
Голос его становился всё увереннее и звонче. Руки его задвигались, Он говорил о минувшем веке — веке героев, о памятниках царскосельских — о Екатерининском дворце, о великолепной Ростральной колонне на пруду, об Орлове, Румянцеве и Суворове.
Их смелым подвигам страшась, дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир…
В зале послышался шёпот. Старичок уронил руки на стол, вперился в Пушкина, улыбнулся и зашевелил губами.
— Старик почтенный кто же будет? — спросил Панька.
— Дурень! Это сам Державин и есть!
Пушкин читал всё вдохновеннее. Голос его звенел металлом. Галич сложил ладони на животе и удовлетворённо покачивал головой в такт.
Пушкин читал о нашествии Наполеона, о родной Москве, окровавленной и сожжённой, о победе над врагом и о призвании поэта —
И ратник молодой вскипит и содрогнётся
При звуках бранного певца.
Державин поднялся и протянул обе руки к Пушкину. Пушкин дико посмотрел кругом и вдруг заметил, что в зале сидит множество людей, что за столом экзаменаторы, а у Державина на щеке слеза.
Он тряхнул кудрями и бурно устремился к выходу из зала.
Среди гостей прокатился гул.
— Что же ему за это будет? — в ужасе спросил Панька.
— Дурень! Видишь, Державин хотел Пушкина обнять! Даже слеза его прошибла!
«Ну, слава богу, наша взяла», — подумал Панька.
На следующий день Панька подошёл к Пущину и рассказал ему про всё, что видел в щёлку.
— Теперь их благородие господин Пушкин из лицейских будут самый главный? — спросил Панька.
Пущин улыбнулся.
— У нас главных нет, — сказал он, — у нас, в Лицее, республика… Пушкин, конечно, гений. А нам, обыкновенным людям, следует о другом думать — о назначении нашем в жизни. Мы уже не дети.
Панька не понял.
— Вырастешь, поймёшь, — добавил Пущин и отошёл.
У лицейских появился свой журнал. Это была книжка в красном сафьяновом переплёте. На переплёте были вытиснены буквы «Лицейский Мудрец» в золотом венке и год «1815». Страницы были переписаны аккуратной рукой лицеиста Данзаса, который по успехам был на последнем месте, но зато отличался превосходным почерком. Он так и написал в заглавии: «Печатано в типографии Данзаса».
Журнал помещал стихи и прозу, откликался на все лицейские события. В нём появилась статья под названием «Борьба двух монархий».
«Тебе известно, — сообщал „Лицейский Мудрец“, — что в соседстве у нас находится длинная полоса земли, называемая „Бехелькюкериада“, производящая великий торг мерзейшими стихами… В соседстве сей монархии находится государство, называемое „Осло-Доясомев“… Последняя монархия, желая унизить первую, напала с великим криком на провинцию „Бехелькюкериады“, но зато сия последняя отомстила ужаснейшим образом: она преследовала неприятеля и, несмотря на все усилия королевства „Рейема“, разбила его совершенно при местечках „Щека“, „Спина“ и пр. и пр… Снова начались сражения, но по большей части они кончились в пользу королевства „Осло-Доясомева“… Наконец, вся Индия пришла в движение и с трудом укротила бешенство сих двух монархий, столь долго возмущавших спокойствие Индии».
Все понимали, что «Бехелькюкериада» — это Кюхельбекер; «Осло-Доясомев»— Мясоедов; «Рейем» — гувернёр Мейер; «Индия» — Лицей.
При этом сообщении помещён был рисунок, изображавший Кюхельбекера, который с вытаращенными глазами наступает на Мясоедова. У обоих бойцов пребольшие кулаки и престрашные лица. Вокруг Кюхельбекера рассыпаны листы мелко исписанной бумаги — вероятно, его стихи. «Осло-братец» Мясоедов изображён с длинными ослиными ушами. Вдали виден Мейер. У гувернёра волосы стоят дыбом от усилий растащить сражающихся. Ничего у него не получается.
Война между Кюхлей и «ослобратцем» возникла из-за басни, которую неожиданно сочинил Мясоедов. Басня эта была направлена против рисунков Илличевского. Художник всегда изображал Мясоедова в виде осла. «Нет, оба мы ослы, — писал Мясоедов, — вся разница лишь та меж нами, что ты вскарабкался на высоты, а я стою спокойно под горами…»