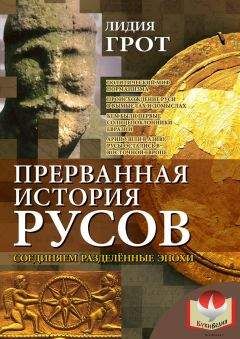Ознакомительная версия.
С точки здравого смысла эти рассуждения выглядят неправдоподобно. Давайте закроем глаза и попробуем представить картину, рисовавшуюся в воображении Вс. Миллера. Итак, русское население Олонецкой и Архангельской губерний в какие-то времена (Миллер хронологией не озаботился) стало заслушиваться финноязычными рунопевцами и… Здесь следует остановиться и задать первый вопрос: на каком языке слушали русские жители северных областей руны Калевалы? Переводили ее для них на русский?
Триптих «Легенда об Айно» по мотивам финского эпоса Калевала. Художник Аксели Галлен-Каллела
Но тогда почему эти переводы оказались скрыты от просвещенного человечества? Проходило слушание рунных песен на финском или карельском? Маловероятно. Разумеется, когда разные народы живут бок о бок друг с другом, то какое-то подобие общего языка для общения складывается, однако это общение происходит на бытовом уровне. Для взаимного же ознакомления с плодами духовной культуры требуется посредничество образованных слоев. Так, первые переводы песен Калевалы на русский язык стали осуществляться не ранее 1840 г. Вот тогда, надо полагать, и произошло реальное знакомство русских с карело-финским эпосом.
Но вопросы, подсказываемые здравым смыслом, можно продолжить и далее. Не странно ли, что всего лишь одно имя из карело-финских эпических песен запало в память русских былинопевцев, а другие имена остались совсем без внимания? Былины – специфический жанр, хранилище дохристианских ценностей, часто сакрального содержания, передаваемого языком аллегорий и символов. Эта специфика накладывала отпечаток и на былинные имена: либо они принадлежали собственной сакральной традиции, либо сакральной традиции, воспринятой со стороны, но воспринятой всем обществом.
Поэтому естественно будет продолжить и задать еще один вопрос. Почему при попытке истолковать какое-нибудь видимое созвучие между древнерусскими именами и именами, встречаемыми в фольклоре других стран, с какого-то времени стали исходить из убеждения, что обязательно древнерусское имя является заимствованным? Например, тот же здравый смысл подсказывает, что в саамском эпосе о солнцевой дочери имена богатырей Колла-парнэ весьма созвучны древнерусскому имени Кола, поэтому они могли быть заимствованы в саамском эпосе вместе с индоевропейским солярным культом через древнерусскую традицию.
Так в русских былинах появились, например, имена библейские, пришедшие с христианством: Самсон, Илья, Алеша. Вместе с этими именами пришли и библейские сюжеты, часто вплетавшиеся в фольклор. А из Калевалы, получается, было выхвачено лишь одно имя, вне всякой связи с содержанием?! Вряд ли здесь можно предложить удовлетворительный ответ.
Но здесь время напомнить о том, что здравый смысл перестал быть руководящей линией в российской исторической мысли к середине XIX в., когда норманизм крепчал, а известные российские историки и деятели культуры пропитались идеей о том, что в русской культуре все либо пришлое, либо заимствованное. В 1834 г. писатель и историк О.И. Сенковский писал о том, что «история России начинается в Скандинавии… вся нравственная, политическая и гражданская Скандинавия, со всеми учреждениями, правами и преданиями поселилась на нашей земле», о том, что восточные славяне утратили «свою народность» и сделались «скандинавами в образе мыслей, нравах и даже занятиях», что сами шведы смотрели на Русь как на «продолжение Скандинавии, как на часть их отечества». Этот словесный сумбур показывает, что к середине XIX в. вымыслы шведской ненаучной историографии XVI–XVII вв. прочно обосновались в российской исторической мысли и с цепкостью, присущей утопиям как паразитическим организмам, стали осваивать древнерусское духовное наследие, область за областью.
Чрезвычайное значение в «системе доказательств» норманистов отводилось древнерусским именам собственным, как антропонимам или теонимам, так и топонимам. Собственно, доказательств-то никаких и не приводилось, а все древнерусские имена – княжеские, имена богов, эпических героев и др. – без особых затруднений, прямо-таки пророчески наделялись «древнескандинавским происхождением». «Филологическая эквилибристика» (Н.П. Загоскин) обладала для норманизма силой черной и белой магии, с помощью которой можно было исполнить любое желание. Например, Ф.Г. Штрубе де Пирмонт еще в XVIII в. высказал уверенность, что древнерусский Перун – это скандинавский Тор, если его имя препарировать таким образом: «Перун – Ферун – Терун – Тер – Тор», а в 1849 г. филолог С.К. Сабинин в древнерусском Волосе «узнавал» Одина, переворачивая это имя на свой лад: Волос (Вольс) – Водек – Вуодан – Один.
Вот на таком культурно-историческом фоне и появились рассуждения Всеволода Миллера о богатыре Колыване как былинном герое, заимствованном из финских сказаний. В ряде моих статей было показано, что образ «сплошного финно-угорского мира» на севере Восточной Европы возник как неотъемлемая часть рудбекианизма и представители финской культуры, выступавшие активными пропагандистами Калевалы и других памятников финно-угорской устной традиции, были связаны с рудбекианизмом прочной связью через образование в шведских учебных заведениях. Поэтому как только взыскующее внимание норманистской утопии пустилось на поиски скандинавского происхождения Ильи Муромца, то по прошествии пары-тройки десятилетий под пару «скандинавскому» богатырю Илье обнаружился и «финно-угорский» богатырь Колыван. Эта этнографическая «находка» Вс. Миллера закрепилась еще больше, когда ее стали использовать для отыскания этимологии летописного наименования Ревеля (Таллина), первое название которого было, как известно, Колывань. Процесс исканий нашел свое отражение у Брокгауза и Эфрона.
В учебниках по истории, написанных профессором И.К. Кайдановым (1782–1843), уверялось, что в Швеции было «начало нынешнего государства Российского», ибо именно оттуда, мыслилось ему, прибыли варяги-русь, «коим отечество наше одолжено и именем своим и главным счастием – монархическою властью». Утопия норманизма объявляла пришлыми и заимствованными из Швеции/Скандинавии не только древнерусские политические и социальные институты, но и памятники духовной культуры Руси, распространяя мысль о том, что древнерусская культура «со всеми преданиями» переселилась на Русь со Скандинавского полуострова. Поэтому постепенно все древнерусское летописное и былинное наследие стало провозглашаться заимствованным из исландских саг, скальдических песен и других произведений, «создававшихся в скандинавской дружинной среде» (Е.А. Мельникова).
Из тёмной глубины веков. Художник Борис Ольшанский
В статье «Колывань, старинное название Ревеля» сообщалось, что в первый раз название Колывань встречается в Суздальской летописи по академическому списку под годом 1223-м, в рассказе о походе князя Ярослава Всеволодовича на Колывань. Затем Колывань упоминается в летописях под годами 1228, 1268, 1269, 1343, 1391, 1433, 1495, 1572 и т. д. Ревель продолжает называться Колыванью даже в XVII и XVIII столетиях, например в ноте Карлу XII, которой Россия объявляла войну Швеции. При этом дипломат петровского времени П.П. Шафиров, указывая на законность притязания русских на Эстонию, выводит имя Колывань от русских слов кола («ограды») и Ивана. Такая этимология определяется авторами статьи как совершенно фантастичная, при этом совершенно без внимания остается ее явно аллегорический характер.
Учебник И.К. Кайданова, который в первой половине XIX в. господствовал в российских учебных заведениях
После завоевания Эстляндии, продолжает статья, Ревель официально уже перестал называться Колыванью, тем не менее в народе имя Колывань сохранялось еще в течение XVIII в. вместе с памятью о переименовании. Так, в солдатской песне (времен Петра Великого) о взятии Ревеля, записанной в Рязанской губернии, поется: «Как во славном-то городе в Колыване, что по нонешнему названьицу славный город Ревель, там стояли полатушки белыкаменны…» Вариант этой песни, с именем города Колыванова вместо Колывани, был записан еще в 1893 г. на Кавказе.
Что же до происхождения имени Колывань, сообщают авторы статьи, то оно находит себе объяснение не в русском, а в финском языке, точно так же, как имя былинного богатыря Колывана. Предания о национальном финском и эстонском богатыре Калеве, распространенные во всей области финнов и эстонцев, были прикреплены и к местности, на которой возник Ревель. Так, одна старинная эстонская песня о смерти Калева говорит, что он похоронен под горой близ Ревеля.
Надо заметить, что «старинные песни», если они не подверглись корректировке более поздних времен, как правило, не отмечают слишком конкретно мест рождения или смерти эпических героев (или же названные места бывает сложно отождествить с современными названиями). Мне приходилось слышать от специалистов, что как Калевала, так и эстонский эпос «Калевипоэг», изданный по следам Калевалы эстонским писателем Ф.Р. Крейцвальдом в 1857–1861 гг., подверглись изрядной литературной обработке со стороны своих собирателей и издателей. На художественную ценность памятников это не повлияло, но явно уменьшило их значение в качестве исторических источников.
Ознакомительная версия.