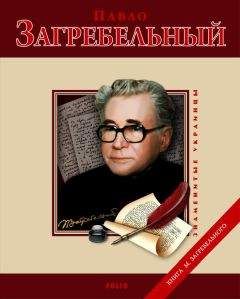Ознакомительная версия.
Воля злых сил простирается угрозою над всеми и всегда, но повисает, словно туча, лишь над иными несчастными. Когда-то она считала, что стоит уехать подальше - и убежишь от злой силы и от собственного несчастья. Чем дальше ехала, тем крепче запутывалась в сетях несчастья. Воля злых сил... Почему сосредоточилась на ней? Расплата за красоту? За происхождение высокое... иль за низкое? Отмщение за мать, которая пренебрегла родом своим и преисполнилась княжьим высокомерием, а такое не проходит безнаказанно ни для кого. Над нею злая воля тяготела от самого рождения, теперь Евпраксия в этом была убеждена.
Придворные дамы перешептывались: чего еще ей нужно? На пышных приемах сидела на двойном троне, рядом с императором, несла на золотистых своих волосах золотую имперскую корону, перед ней падали на колени, целовали руку достойнейшие мужи, за нее пили на пирах, за нее молились в соборах. Чего ей нужно?
Никто не видел того, что не дано видеть. Жизнь повседневная разделена ведь на видимую и скрытую. Никто не видел ее одиночества, от которого можно одичать, отчаяния, что могло довести до безумия. Рядом с ней была только Журина; вместе и плакали тайком, чтоб никто не заметил и не услышал, хотя, кажется, кто бы услышал: император неожиданно оглох.
Приступы глухоты начались у Генриха еще давно, после трехдневного стояния на морозе в Каноссе, приходили и позже, всегда в пору наступленья дождей, холода и пронзающей сырости. Генриху легко было скрывать глухоту, потому что - император, ему надлежало повелевать, приказывать, кого ему-то слушать? Император обязан так или иначе быть отделенным от "нижнего" мира, он наверху, ему нужен покой для размышлений, для высших решений, и пусть о него, как о подножие высокой горы, бьются тысячи людей с их мелкими хлопотами, суетой, никчемностью, он же остается пребывающим в гордом одиночестве, один на один с облаками.
Только Заубуш знал о глухоте императора, как и обо всем остальном у императора, знал, но умело избегал в дни приступов глухоты всяких разговоров с ним, - лишь слушал и хлопал ресницами в знак понимания и покорности. Евпраксия о глухоте императора не знала, потому и начались у нее беседы с Генрихом столь странные, что она уверялась, будто сходит неминуемо с ума.
О н а: Неужели во всей вашей империи льет такой нудный дождь?
О н: Положение императрицы обязывает.
О н а: Я не люблю воды. В мокрядь человек всегда слишком остро ощущает свое одиночество.
О н: Сегодня я пришлю вам новые украшения. Их привезли от французского короля. Я сожалею, что умерла ваша тетка Агнес, королева Франции. Примите мои соболезнования.
О н а: Мне хочется жить.
О н (улыбаясь): Страх подданных - дело понятное, а на прихоть женщин-повелительниц нет управы.
О н а: Боже мой, неужели это прихоть?
О н: Мы никуда больше не поедем.
О н а: Я никуда и не хочу ехать, от себя никуда не убежишь. Но мне грустно и горько!..
О н: Императору приходится больше любить замки, чем сытые города, воинов больше купцов, битвы - больше мира.
О н а: Боже, я никогда не знала, что судьба императрицы может быть столь тяжелой!
О н: Церковь требует мира, а я хочу распрей.
О н а: Человек должен жить красотой, добром, правдой, иначе - зачем тогда жить?
О н: Величие изнуряет, к этому следует быть готовым всегда. Величие это зверь, который требует каждый раз новой поживы. Зато ничто не может быть выше величия!
О н а: А кто ответит мне взаимностью на мой вздох, на мой крик, на мой поцелуй?
О н: В Саксонии снова бунтуют бароны. А эта всесветная блудница Матильда Тосканская женила на себе глуповатого мальчишку - Вельфа Баварского.
О н а: Я ничего не желаю знать об этих людях! Какое мне дело до них?
О н: Про Карла Великого сказано, что он большее внимание уделял государственной пользе, нежели упорству отдельного лица. Хотел бы напомнить вам еще, что Карл весьма любил чужеземцев и проявлял большую заботу, дабы достойно принять их, так что число их оказывалось небезосновательно обременительным не только для двора, но и для всего государства. Но он, по величию души, не придавал значения таким соображениям, ибо и наибольшие неудобства в этом случае вознаграждались: щедрость всегда славят и доброе имя всегда ценят. Императоры Священной Римской империи брали в жены греческих принцесс, но русской принцессы не имел за собой еще никто из них. Я первый, и вы - первая. Что может быть прекрасней?
О н а: Стать императрицей и перестать быть человеком? Иль человеческое заказано императорам?
О н: Простолюдины всегда нетерпеливы, ибо им не видно, что впереди.
О н а: И мне тоже не видно! Ничего не видно! Не надеюсь ни на что! Не жду ничего!
Генрих со спокойным недоумением смотрел на брови императрицы, бесстыдно взлетавшие вверх; замкнутый в себе, он был неприступен для страстей, терзавших женщину. Кто не сеет, у того не уродит. Глухота полностью отрезала его от мира, в него вселилось равнодушие человека, вознесенного так высоко, что для него уже исчезает беспредельное разнообразие, неодинаковость всего земного. Время одинаково, мир вокруг одинаков - чему было тревожиться? Но он оставался человеком, пусть и высоко вознесенным, - он тревожился, он с тревожной неуверенностью думал о своей императрице... Всю жизнь жаждал одиночества, а когда оно пришло, по неумной прихоти пожелал иметь возле себя это нежное существо. Теперь вот казнился и ярился. Жена - помощник, единомышленник, вторая половина твоего естества, твое дополнение, сообщник в замыслах твоих, сила, встающая на твою защиту, если б даже нужно было бороться против всего мира. Может, правда, стать и врагом, скрытым, упрямым, неподкупно-неумолимым, страшным в своей непостижимости и непоследовательности. Но и тогда тебе легче; знаешь, кто пред тобой. Хуже всего неопределенность, неуловимость, загадочность. Тогда угрозы подстерегают отовсюду, а откуда точно - не поймешь и не отгадаешь, и жизнь совместная становится дурным сном, - в его тисках задыхаешься, высвободиться не в состоянии, но и тебе не дано задохнуться до конца, мучишься, мучишься, и нет тому конца.
Генрих вызвал Заубуша и спросил у него, выполняется ли и тут, в Бамберге, повеление, чтоб возле дворца не было ни единого голубя? Барон похлопал ресницами, усмехнулся одними глазами. Душа императора напоминала сейчас покинутый и забытый дом: цел и невредим, а никто в нем не живет. Хотелось подойти, закричать Генриху на ухо: "Вылечу тебя, император! Я, барон Заубуш, сделаю это!" Но решил ждать. Время - канат, протянутый между восходом и заходом солнца. На ночь он свертывается и от свертываний и развертываний этих изнашивается. Нужно подождать, когда канат перетрется однажды.
Дождался. Никто не увидел того, что случилось, но узнали все, а Заубуш - прежде всех. Императрица наконец прознала про глухоту императора. Ничего страшного, кажется, ведь глухота все ж лучше, чем глупота, но Генрих-то не мог стерпеть, чтоб его тайна оказалась раскрытой.
Началось страшное.
В часы, свободные от дворцовых приемов, Евпраксия, пренебрегая обычаем, бродила по дворцу с распущенными волосами. Корона, как и на приемах, венчала ее золотистые волны, но на неприбранных волосах она утрачивала тяжесть и символичность - просто драгоценное украшение. И вот в таком виде Евпраксия набрела однажды на Генриха. Он стоял у окна, чуть сгорбленная спина выдавала его напряжение, сосредоточенность: то ли пристально всматривался во что-то на дворе, то ли мучительно замкнулся, ушел в свои мысли. Евпраксии стало жаль его. Потихоньку позвала:
- Император!
Он молчал.
- Ваше величество!
Ничего.
- Генрих! - сказала громко.
Никакого отклика.
- Муж мой! - крикнула что было сил. - Слышишь меня?
Он не слышал.
Зашла со стороны, встала так, что не мог он ее не заметить; в глазах мужа, обращенных к ней, мелькнул и тревогой и стыдом испуг, метнулся, но не осмелился удержаться на поверхности, тут же затаился, нырнул в глубину взгляда. Должен бы сказать ей Генрих, что крепко задумался, оттого, мол, не заметил, как подошла. Но Генрих мигом впал в ярость от нежданного разоблачения, а может, и от золотистого блеска распущенных змеисто-струящихся волос женщины, он накинулся, будто дикий зверь, на нее, вцепился ей в волосы, запустил обе руки в их теплые волны, рвал, дергал, она закричала, но он не слыхал, а чего не слышит император, того не слышит никто. Наконец Евпраксия вырвалась из рук мужа, отбежала к двери, молча ударила его взглядом, полным ненависти и обещанья вражды до конца жизни.
С того дня и началось безумие.
Еще с вечера она вдоволь наплакалась с Журиной, и никто им не мешал. А после ночного пиршества Генрих выразил желание идти спать в императорскую ложницу вместе с императрицей. Их сопровождали маркграфы и бароны, императорские спальники и чашники; огромная ложница не могла вместить всех челядинцев; событие свершалось, можно сказать, государственное - впервые и открыто покладины императора и императрицы; появился даже исповедник Адельгейды аббат Бодо и хотя в ложницу не пошел, но благословил свою духовную дщерь. Торжественное раздевание затянулось. Евпраксия словно одеревенела, тело ее занемело, она ничего не чувствовала. Все вокруг было затоптано грубыми сапогами баронов, пьяных, вонючих, отвратительных. Неужели даже это должно произойти средь позора, неужели и чуткость человеческую следует принести в жертву условностям императорской жизни, непостижимым требованиям "государственного" ритуала. Вожделение живет в человеке испокон веков, при всех государствах, королях и богах, но выпускать этого зверя принято тайком, людской неписаный договор требует темноты и скрытности, чтобы все происходило только между двумя, и только этим двоим пусть откроются нужды тела, жажда тела, зов тела, крик тела, содрогание тела...
Ознакомительная версия.