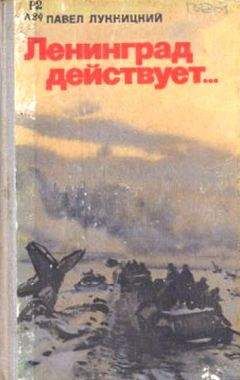День
Сижу в палатке Пресса, жду отъезда, поеду с Бурцевым, Черепивским и другими. Завезут меня в Городище. Политрук Запашный за столом разговаривает с Зиновьевым, подготовляя его к вступлению в партию. Все ходившие в рейд с Прессом вовлекаются в партию – видимо, в ближайшее время весь взвод станет коммунистическим.
Напротив, в палатке, политрук другой роты в пух и прах разносит двух арестованных бойцов – сначала одного, потом второго (насколько я понимаю, за какие-то нехватки продовольствия). Берет с них обещания исправиться, приказывает их освободить. Они выходят в шинелях без поясов, – им возвращают пояса и противогазы. Голос красноармейца: – Фриц пикирует!
Стрельба зениток. Гудят самолеты, но мне лень сделать два шага, чтобы выглянуть из палатки и посмотреть. Надоело: самолеты и стрельба по ним весь день.
… Все-таки вышел. Только что наблюдал воздушный бой восьми «мессершмиттов» с пятью нашими истребителями. Крутились прямо над головой. Ушли, и вот подошли опять, воздух наполнен гуденьем моторов и зенитной стрельбой – орудийной и пулеметной. Небо облачно, и самолеты то скрываются в облаках, то выходят из них, выделывая сложные фигуры пилотажа, пикируя, поднимаясь снова, встречаясь и расходясь. Вот они над головой опять…
… Продолжают летать, кружиться над нами. Наши истребители куда-то ушли. Из леса, из болота повсюду стрельба. Наши разведчики, смеясь, пошучивая, наблюдая, выжидают, и как только кто-либо из немцев проходит достаточно низко, стреляют из автоматов. Но немцы летят преимущественно на значительной высоте, примерно – с тысячу метров. Вот пока пишу это – завывание пикирования и гул удаляющихся машин, и то ближе, то дальше – стрельба. Часть разведчиков второго взвода продолжает сидеть за столом, направо от палатки, – пишут заявления, заполняют анкеты для приема в партию… Вот низко свистит самолет, зенитки заухали с новой яростью. Часа полтора назад политрук Запашный собирал всех… (Оглушительно тарахтят автоматы рядом с палаткой и возгласы «Идите поднимайте, упал!» – это смеется над одним из стрелявших другой боец)… собирал бойцов взвода, убеждал их писать заметки в боевой листок… И через полчаса весь взвод написал статьи и заметки, – Запашный за столом перечитывает всю пачку.
Мне сейчас делать нечего, жду машину. Заходил военком Бурцев, сказал: «Скоро поедем!» Читаю Тарле – «Кутузова», брошюрку, изданную в Ленинграде. На днях почта доставила в части несколько таких брошюрок, изданных Политуправлением Ленфронта в 1942 году. Написаны они Н. Тихоновым, В. Саяновым, Е. Федоровым… Это значит, что типографские возможности Ленинграда улучшились… И еще больше захотелось мне в Ленинград!
Пасмурно. Начинает чуть-чуть накрапывать дождь. В воздухе стало тихо. Самолеты исчезли. Займусь пока статьей…
Прощание с Черепивским17 мая. Лес у деревни Городище
Лес, – опять высокие, стройные сосны. Пишущая машинка стоит на ящике. Полог редакционной палатки открыт, перед собой, сквозь густые ветки срубленной, маскирующей палатку сосенки вижу только стволы деревьев да пни, да две-три других редакционных палатки.
Сегодня я вернулся с передовой линии из разведотряда капитана Ибрагимова. Вчера ночью, конечно, грохотала артиллерия, вообще продолжалась та фронтовая активность, какую мы наблюдали накануне вечером, точнее – поближе к полночи. Я вчера из палатки Пресса ходил в автофургон (штаб), к Ибрагимову. Прошел к нему, а у него оказался батальонный комиссар, секретарь армейской партийной организации, приехавший для разбора каких-то партийных дел и вызывавший к себе по очереди всех членов партии отряда. Фамилии его я не помню, – спокойный, культурный, умный, скромный, очень понравившийся мне человек.
Ибрагимов сказал мне, что и сам не едет и меня не увозит потому, что легковую машину пришлось отправить в один из стрелковых батальонов: из немецкого тыла ожидается выход четвертой по счету за эти дни группы разведчиков, которую уехал встречать командир первой роты Гусев. Гусев, дескать, сидит в стрелковом батальоне, ждет своих, волнуется, и к нему, подбодрить его и вместе с ним встретить группу, только что выехали командир второй роты старший лейтенант Черепивский и военком отряда политрук Бурцев – неразлучные друзья-приятели.
С Бурцевым я виделся в продолжение всех дней пребывания в разведотряде и уже многое записал о нем. А Черепивский… вчера, когда он приходил ко мне в палатку Пресса и анализировал тактические ошибки, допущенные его разведчиками, я любовался им: здоровый, налитый соками жизни, как спелое, крепкое яблоко, дюжий, уверенный в себе и спокойный Черепивский понравился мне своим трезвым взглядом на вещи, отсутствием какого бы то ни было желания приукрасить свои боевые дела (напротив, опускающий все то, что касается лично его самого), умением тактически мыслить и ясно формулировать свои мысли.
Так вот, я пришел к Ибрагимову и застал у него только что упомянутого мною батальонного комиссара.
Ибрагимов уговаривал меня погостить в отряде еще несколько дней и затем велел своему связному, стройному фрунзенскому киргизу Исмаилову, принести капусты и водки, и мы выпили по полкружки и потом ужинали – жареной картошкой, блинчиками из белой муки с мясом и пили чай с печеньем. Завязалась хорошая беседа – о Памире, где Ибрагимов, как и я, бывал, о писателях, а потом – о Ленинграде, о пережитом в зимние месяцы, обо всем, что не выходит из мыслей всех любящих свою Родину. Мы как-то очень хорошо понимали друг друга, очень теплой, откровенной и проникновенной была беседа.
Было за полночь, когда я ушел от Ибрагимова. Болотцем, темным, мелкорослым, березовым леском мне нужно было пройти шагов двести до палатки Пресса. Но я не торопился пройти их, – так же, как и два вынырнувших из мрака часовых, я долго смотрел на запад. Там в темном небе вставал купол полыхавшего отражением в облаках багрового зарева – направление его от нас было строго на Ленинград. И мы – часовые и я, – а потом еще бессонный, в каких-то раздумьях блуждавший вокруг своей палатки по темному лесу Пресс, обсуждали – в Ленинграде ли этот большой пожар или в Шлиссельбурге, приходящемся на том же азимуте? Белые, как повисшие в небе солнца, горели круглые диски ракет, медленно, почти незаметно опускавшихся на парашютах. Левее черное небо рассекалось огненными пунктирными струями трассирующих пуль, выбрасываемых прямо в небеса пулеметами, – перекрещивающихся, извивающихся как змеи. Моментами яркие взблески от разрывающихся снарядов охватывали весь западный сектор неба неподалеку от нас – может быть, в километре, может быть, ближе.
Гитлеровцы обстреливали наш передний край, и после каждого такого светового эффекта теплая ночь доносила то грохот, то гул артиллерийской стрельбы – далеких выстрелов и близких разрывов, то трескотню пулеметных очередей, то глухие раскаты от разрывающихся здесь и там авиационных бомб, – авиация наша ли, вражеская ли активничала в эту ночь, и незримые в черном небесном своде самолеты гудели и прямо над нами, и дальше… Среди этил перегудов авиамоторов порой слышалось легкое, как бы прихлопывающее звучание медленно летящих У-2, поддерживающих сообщение с Ленинградом и храбро вылетающих в тыл врага для ночной разведки.
Мне и Прессу не спалось. Вместе, хорошо понимая друг друга, мы долго не заходили в палатку, вслушиваясь в эти звуки, вглядываясь в это небо и почти не разговаривая, только время от времени высказывая то или иное предположение свое по поводу нового разрыва, нового снопа пламени, нового зарева, – второе большое зарево возникло в направлении Мги, до которой от нас было не больше двадцати километров. И мы решили, что это наши бомбардировщики только что сделали новый налет на Мгу.
Нечто таинственное, величественное, режущее душу острой печалью было в том, что демонстрировали нам облака, – в зареве над Ленинградом. Что еще в ту минуту происходило там, в моем городе? Какие жертвы? Какой пожар? Какая новая беда в нескончаемой череде бед?
А потом я и Пресс отправились спать, и долго не засыпали оба. Проснувшись утром, я слушал соловьиное пение – соловей беспечно заливался где-то совсем близко над скатом палатки, и гул, мгновеньями встававший на переднем крае, ничуть не смущал чудесного певуна. И я и Пресс не выспались, не хотелось вставать, но тут вошел боец, сказал: «Товарища старшего лейтенанта капитан требует!» И иначе, другим тоном, добавил: «Старший лейтенант Черепивский ранен, и военком тоже!» И мы сразу вскочили – Пресс, я, Запашный, быстро оделись, и пока одевались, Бакшиев привел бойца, который рассказал: Черепивский и Бурцев, приехав на КП стрелкового батальона, не нашли там Гусева, им сказали, что он в пулеметной роте, и они с несколькими бойцами направились в пулеметную роту. И рядом ударили, разорвались одна за другой три мины, бойцы легли, а Черепивский не захотел лечь, продолжал стоять, и за ним так же стоял Бурцев, хотя бойцы и советовали им лечь. После третьей мины Черепивский сказал: «Ну вот, три – весь залп, теперь перенесет, пойдем дальше!» – и двинулся дальше, и только пошел, три новых мины почти одновременно грохнулись рядом. Черепивский и Бурцев упали раненые – Черепивский в живот, в плечо, в бедро, в ногу, Бурцев – в ягодицу. Было это в десять часов вечера…