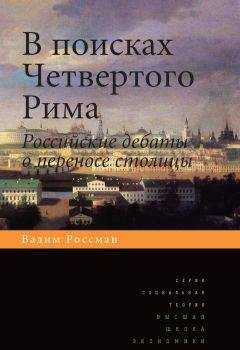В разговорах о новой столице зашифрована неотрефлексированная тоска по новым смыслам и символам. Эти смыслы, а также истину нового сообщества, действительно нелегко отыскать среди сталинского ампира, мумифицированного задора первых пятилеток, застывшего в московской архитектуре, среди бывших советских чиновников, перерядившихся в пионеров капиталистического строительства и в богомольных прихожанах церквей и среди прочих ветшающих символов советской государственности.
Описанная ситуация заставляет задуматься о кризисе старых символов и необходимости нового кода и архитектурного языка новой нации, рождение которой ожидалось после падения СССР. Коммунистический символизм и иконография Москвы не очень совместимы ни с реальными, ни с официально провозглашаемыми ценностями современной России. Являясь молчаливым свидетельством и напоминанием о фиаско старой политической утопии, они зовут в мест о, которого больше нет, не только на физической, но и на идеологической карте. Комиссия Национальной Столицы в Оттаве сформулировала в свое время задачу построения новой столицы Канады как места, где «подчеркивается прошлое, представляется настоящее и воображается будущее» [NCC, 2000b]. Если экстра полировать эту формулу на современную Москву, то можно сказать, что в ее визуальном облике представляется прошлое, воображается настоящее, а будущее остается невидимым и непредставимым.
Формирование политической идентичности в новой России требует нового символизма, который бы воплотил новые устремления нации. Поворот, сопряженный со сменой столицы и ее новым символизмом, мог бы оживить российскую политическую культуру и идеологию.
4. Аспекты формирования нации
В тесной связи с кризисом символизма Москвы находится отсутствие собственно национальной составляющей в нынешней российской столице, что во многом связано с незавершенностью процессов строительства нации.
Многие историки и социологи сходятся во мнении, что проект национального строительства в России находится на начальной стадии своего воплощения. В ходе истории под спудом строительства империи оказались религия и сама нация, подчиненная имперским императивам господства [Хоскинг, 2000].
В серии книг и статей британский историк Джеффри Хоскинг показал, как процессы строительства империи тормозили русский национальный проект. В результате изломанности и слабого развития национального сознания, собственно национальные институты не получили в России должного развития. Титульная нация подвергалась такому же давлению и эксплуатации со стороны политической власти, как и национальные меньшинства. Русский империализм часто рядился в одежды русского национализма («официальный национализм», в терминах Бенедикта Андерсона), но сам русский национализм парадоксальным образом получил гораздо меньшее развитие по сравнению с другими национальностями, населявшими российскую империю [Там же]. На это же обстоятельство указывала и российский социолог Валентина Чеснокова (под псевдонимом Ксения Касьянова), которая назвала русскую нацию «самым длительным долгостроем в истории» [Касьянова, 2003: 16].
В то время как большинство европейских наций встало на стезю имперского строительства уже в качестве современных национальных государств, российский имперский проект навязывал отождествление нации с территорией и не способствовал развитию по европейской траектории, приглушая эволюцию по гражданской и политической линии. Озабоченность национальными проблемами была вытеснена заботой о территории, ее организации и экспансии [Хоскинг, 2000]. Болезненное беспокойство по поводу геополитического позиционирования и символизма пространства, бросающееся в глаза в российских дебатах о столице, как будто скрывает в себе как раз озабоченность реальными проблемами новой идентичности.
Хоскинг выделяет два аспекта в национальном сознании – гражданский и этнический. Первый имеет в виду участие в создании и принятии законов, управление через выборные органы, суды, политические партии и институты гражданского общества, второй – культурную общность людей. По мнению Хоскинга, в России строительство империи подавило главным образом гражданскую составляющую национального развития[42]. Можно сказать, что и в постсоветский период национализм часто развивался патологическим и деструктивным образом, приобретая формы расизма и ксенофобии, и не всегда гражданскую направленность.
В контексте столичности можно сказать, что обе русских столицы не были в достаточной мере национальными; являясь по преимуществу имперскими и эксклюзивными. Близость к власти создавала особые социальные дистинкции, малознакомые более демократическим странам. Так на почве принадлежности к привилегированному пространству Москвы еще в советское время возникли категории лимитчиков, провинциалов и иных групп немосквичей, которые маркировали людей в качестве социально не вполне полноценных. Кроме того, столица не была интегрирована в собственно национальное пространство. В своей метагеографии российских столиц географ Дмитрий Замятин так иронически писал об этом особом месте, как бы выпадающем из пространства страны:
Столица находится высоко, на верхушке страны, но так высоко, что оттуда не видно остальной страны… Столица находится практически в другом пространстве, не в том, где регионы, города, области и местности, а в том, где ландшафты и иные возможные обозрения и кругозоры свернуты в тугие и плотные клубки умозрительных конструкций. Столица не нуждается в пейзажной деятельности зарубежных энтузиастов, она уже за рубежом, она в за-странье… Столичность сама по себе – это все, что нужно лишенной теплой и душевной живописности плоской стране [Замятин, 2003].
Хотя Россия никогда не была колонией, те особенности становления нации, которые были очерчены Джеффри Хоскингом, сближают ситуацию постсоветской России с ситуацией постколониальных государств и с позицией Турции после крушения Оттоманской империи. Новая национальная столица способствовала дистанцированию этих народов от своего имперского прошлого или от названных им имперских институтов, императивов, символов и интеллектуальных привычек. В случае России национальная столица также могла бы стать катализатором процессов национального строительства и лабораторией национального самопознания.
Дополнительным аргументом в пользу новой столицы может служить и вертикальный характер наиболее фундаментального раскола в России, на который мы уже указывали. В то время как во многих странах существуют расколы по географической оси (наиболее известные из таких территориальных расколов – отношения между Югом и Севером в Италии, США и Китае или Востока и Запада в Германии и в Украине) в России вариации в политических ориентациях и электоральном поведении по осям восток – запад и север – юг не так сильно выражены как по линии центр – периферия. По свидетельству политолога Ростислава Туровского, автора работ по политической регионалистике, «в России при всем ее разнообразии нет ни одного крупного и очевидного территориально-политического раскола, четко выраженного на карте. Самый главный раскол центр – периферия на карте не выражен, он имеет вертикальный характер» [Туровский, 2007: 49–51].
Это положение вещей во многом свидетельствует о кризисе легитимности центра, не представляющего интересы ни одной из сторон, и необходимости поиска нового места силы (city of power), которое могло бы ослабить или ликвидировать существующий раскол в обществе.
Так как Россия не является бинарным обществом (если не иметь в виду противостояние между центром и периферией), где легко можно идентифицировать линию границы между двумя или несколькими макрорегионами или место возможного пространственного компромисса, то здесь осуществление классической логики компромисса чрезвычайно затруднено. Принципы такого компромисса между различными этническими и этноконфессиональными группами или самыми крупными городами играли решающую роль в поисках и идентификации новых столиц в таких странах как США, Канада, Австралия или Бельгия. В США столица стала точкой компромисса между югом и севером, в Канаде – между франкофонами и англосаксами, в Австралии – между крупнейшими городами страны, в Бельгии – между французской и фламандской частями государства. Некоторые участники дискуссии, впрочем, подразумевают именно такой компромисс – между Москвой и остальной Россией. В свое время Константин Аксаков также представлял Москву как точку своего рода компромисса между Землей, то есть русскими провинциями, в отношении которых Москва выступает хадатаем и заступником, и империей. Однако сегодня чрезвычайно трудно идентифицировать в России город, который бы представлял собой всю Россию и по отношению к которому новая столица могла бы служить очевидным и естественным центром компромисса. Более реалистичен поиск федерального центра без привязки к точкам соприкосновения конфликтных зон. Именно такая национальная столица, которая является не третейским судьей, а местом уравновешивания интересов регионов, могла бы стать центром поиска гражданской составляющей русского национализма и новых символов федеративной нации.