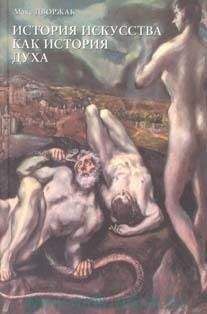Фигуры не изображаются на различной глубине в пространстве картины, а помещаются, по возможности, на одинаковом расстоянии от зрителя, при этом — как правило — на самом переднем плане картины, так что ее глубина представляется не выходящей за пределы самой картинной плоскости.
В этом единственном пространственном плане они стоят или соподчиненно, одна рядом с другою, или симметрично, слева и справа от средней фигуры; и изображения в различных полях по большей части тоже размещены так, чтобы по возможности соответствовать друг другу.
Подобно тому, как отсутствуют более подвижные или свободные композиции, отсутствуют также и все более сложные мотивы положений и движений. В большинстве случаев фигуры предстают перед нами в неподвижной фронтальности; это действует тем более примитивно, что художники при изображении фигур помимо того жертвовали и многим другим,что было в классической живописи высшим пределом художественных стремлений: полнотою восприятия, осмысленной уверенностью в передаче природы и в решении всех формальных проблем (уверенностью, которая, являясь результатом векового развития и выучки, придавала раннему, а также и современному языческому искусству такую высокую степень совершенства). Место прежнего богатства наблюдений и формальных решений заняло теперь ограниченное число типов и шаблонов, и там, где в классическом искусстве наблюдалось подробное живое описание, в христианских подземных усыпальницах мы находим только самую сжатую аббревиатуру.
Поначалу хотелось бы обозначить все эти бросающиеся в глаза отличительные черты как полное обеднение живописи, и вряд ли можно было бы вторично наблюдать нечто подобное но внезапности и последовательности на всем протяжении истории искусств. Нельзя, однако, объяснить эти черты всеобщим иссякновением творческих сил классического искусства, потому что черты эти могут быть отмечены совершенно непосредственно во множестве памятников и при том в эпоху, когда, как мы еще услышим, языческая скульптура и живопись еще полностью владели прежней выучкой. Равным образом нельзя эти отличительные черты свести к относительной низшей качественности памятников, к невысокому художественному уровню работавших в катакомбах художников. Если бы это было так, то налицо должны были бы быть по меньшей мере попытки как-либо подражать остальному классическому искусству. Но то, что мы находим в катакомбах, не отличается меньшей качественностью поставленных задач и достижений, — это иное искусство; это — по отношению к классическому — новое искусство.
В обычных изложениях истории живописи катакомб сказанное принималось большинством исследователей, причем, как правило, считалось достаточным указание на христианское происхождение этой живописи. Более глубокую попытку объяснения сделал Вульф[2] . По его мнению, искусство катакомб было «первосозданным», т. е. оно означало начало нового искусства, развивавшегося из примитивных принципов изображения. В амулетах древнехристианского времени, многие из которых сохранились (правда, более поздних столетий), можно увидеть опыты такого рода изображений, в которых молитвы и волшебные формулы сгущаются в образы. Из подобных новообразований, примкнувших по композиции к древнейшим восточным схемам, сохранившимся в народном искусстве, и возник сначала в Александрии — перемешанный с заимствованиями из античности — древнейший цикл изображений, создания которого и сохранились в стенописи римских кладбищ. Так, искусство, по словам Вульфа, «началось снова».
Это объяснение прежде всего совсем гипотетично, так как предметы культа, на которые ссылается Вульф, младше, чем изображения в катакомбах. Эти последние стоят, как известно, в самой тесной связи с заупокойными молитвами и, очевидно, уже поэтому изобретены для катакомб, а не для паломнических амулетов. Из Александрии до нас дошли только более поздние памятники, которые к тому же не имеют ничего общего с живописью в итальянских катакомбах. Предположение, что христианские художники или, лучше сказать, беспомощные дилетанты, черпая только из темных источников народного суеверия, изобрели посреди позднеантичного развития новое «праискусство», отличается романтичностью, т. к. противоречит известным фактам. Ведь в новшествах катакомбной живописи мы имеем дело не только с новыми образными идеями, но и с гораздо большим: с новой художественной ориентацией, выступающей как в образном выражении, так и во всем восприятии формальных проблем и не являющейся ни примитивной, ни древневосточной, ни народной.
Несмотря на то, что живопись катакомб диаметрально противоположна классической, она все-таки имеет предпосылкой последнюю и развивается из нее. Связь не ограничивается, как часто утверждается, отдельными заимствованиями, но не в меньшей мере распространяется и на общие стилистические принципы, среди которых в качестве особо важных и характерных следует выделить два. Один заключается в самом восприятии форм, которое, правда, жертвует натуралистическими и художественными целями и преимуществами античного искусства, в остальном, однако, еще остается в полной зависимости от античных формальных норм. Развитие новых образов и декораций идет не от курьезной бедности к богатству, а в обратном порядке: из первоначально богатого запаса форм и образных представлений кристаллизуются новые образы и декорации. Подобным же образом обстоит дело и с живописным стилем катакомбных фресок. Его основа повсюду — позднеантичный импрессионизм, в более ранних картинах — на своей классической ступени развития — раскрывающийся сильнее и чище, чем в более поздних; следовательно, и в этом отношении живопись катакомб должна восприниматься не как «первоначальное» искусство, а как явление, которое при всех различиях тесно связано с позднеантичной художественной жизнью.
Импрессионизм был одним из последних и самых тонких цветов античного художественного развития. Христианство могло примкнуть легче, чем ко всякому иному, именно к искусству представлять вещи не так, как они даны объективному опыту, а как они представляются субъективному восприятию: пересозданными в нематериальные впечатления; точно так же и христианская наука могла примкнуть к неоплатоновской философии, которая начала понимать мир, как создание духа, а источник красоты стала искать в излучении духовного света в чувственную среду.
Таким образом, исходной точкой искусства катакомбной живописи является не «первоначальное созидание», а современное ему искусство — античная живопись первых столетий нашей эры. Но катакомбная живопись не останавливается на стиле античной живописи, а изменяет его. Это изменение состоит не в простонародном «опрощении», которое должно было бы покоиться лишь на огрублении средств изображения — в катакомбах последовательно «подавляются» и заменяются другими определенные качества предшествовавшего и современного искусства.
Было отброшено по возможности все, что напоминало прежний культ тела и натурализм, место которых заняли новые ценности.Сюда относится прежде всего новая трактовка основной плоскости изображения. Исчезают замкнутые ограниченные пространственные сцены, но не самое пространство. Несмотря на то, что изображение определенной пространственной обстановки большей частью отсутствует, все-таки задний план фигур действует не как материальный фон, а как свободное пространство; это воздействие достигается упомянутым параллельным размещением фигур в одинаковом отдалении от зрителя, композицией, которая даже и при большей формальной разработке не нарушает отведенной ей неглубокой пространственной зоны. Здесь отсутствует всякий рельеф, всякое трехмерное впечатление, и по возможности избегаются ракурсы. Телесность сводится до минимума тем, что фигуры совпадают с оптической зрительной плоскостью; а так как эта плоскость в основном оказывается плоскостью фона, то последняя в сознании зрителя превращается в иллюзию свободно окружающего фигуры пространства. Ощутимое, пластически трехмерное почти полностью устраняется. Фигуры кажутся возникающими — подобно теням или привидениям — откуда-то из окружающего, из неограниченного — неоформленного свободного пространства.
Этим, без сомнения, не преследовались натуралистические цели, как порою можно видеть в позднеантичной живописи: в передаче освещения и воздушной среды или в изображении атмосферного заднего плана в случае мотивов, которые того требовали. В живописи катакомб дело идет не о том или другом естественном вырезе из свободного пространства, не о том или ином живописном наблюдении действительности, а об идеальном пространстве, о пространстве в себе, приходящем на место прежнего рельефного фона.
Откуда идет это превращение? Из того же источника, откуда проистекало отстранение пластического и тектонически телесного. Чтобы это понять, мы должны представить себе смысл и цель этой живописи некрополей в связи с новым христианским восприятием искусства. Так же далеко, как формальные, идут и тематические изменения, отличающие искусство катакомб от классического. Эта разница заключается не только в новых темах изображения, но не в меньшей степени и в новом восприятии их содержательного значения.