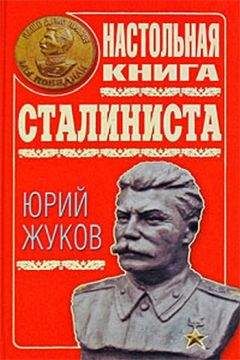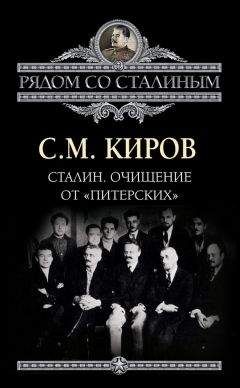Из показаний Драуле от 1 декабря: «С момента исключения его (Николаева. — Ю.Ж.) из партии он впал в подавленное настроение, находился все время в ожидании решения его вопроса о его выговоре в ЦК и нигде не хотел работать. Он обращался в районный комитет, но там ему работу не дали. На производство он не мог пойти по состоянию здоровья — у него неврастения и сердечные припадки».
Из показаний М. Т. Николаевой от 11 декабря: «В материальном положении семья моего сына Леонида Николаева не испытывала никаких затруднений. Они занимали отдельную квартиру из трех комнат в кооперативном доме, полученную в порядке выплаты кооперативного пая. Дети были также полностью обеспечены всем необходимым, включая молоко, масло, яйца, одежду и обувь. Последние 3–4 месяца Леонид был безработным, что несколько ухудшило обеспеченность его семьи, однако даже тогда они не испытывали особой нужды».
Из показаний Драуле от 1 и 3 декабря: «Читая книги, он делал иногда заметки, писал несколько раз свою автобиографию, причем один раз переписал ее печатными буквами. На мой вопрос для чего он это делает, он объяснил мне, что хочет, чтобы старший сын Маркс мог ее читать и изучать. Высказывал желание придать изложению автобиографии литературный характер, для этого читал Толстого, Горького и других авторов с целью усвоения, как он мне говорил, их стиля…
У него были настроения недовольства по поводу исключения его из партии, однако они никогда не носили антисоветского характера. Это была, скорее, обида за нечуткое, как он говорил, отношение к нему. В последнее время Николаев был в подавленном состоянии, больше молчал, мало со мной разговаривал. На настроение его влияло еще неудовлетворительное материальное положение и отсутствие возможности с его стороны помочь семье».
«Человек он нервный, вспыльчивый, однако эти черты особо резких форм не принимали. У него бывали иногда сердечные припадки. Истерических припадков не было. Он вел дневник. Последний раз я знакомилась с его дневником летом». «Сначала мы условились писать о детях, а затем дневник стал отражать упадочные настроения Николаева, который выражал тревогу по поводу материальной необеспеченности семьи… До августа 1934 г. я принимала участие в записях, в августе я находилась в отпуску в Сестрорецке, после отпуска не помню, принимала ли участие».
Из показаний Николаева от 16 и 17 декабря с пояснением содержания своих записей: «В письме «Мой ответ перед партией и Отечеством» я сравнивал себя с Андреем Желябовым, говорил: «Я веду подготовление (убийства Кирова. — Ю.Ж.) подобно Желябову»». «Уподобляя себя деятелю освободительного движения эпохи Екатерины Второй Радищеву, я писал (в дневнике. — Ю.Ж.), что «его сила была в том, что он не мог равнодушно молчать, видя непорядки»».
Но не только подобные, бесспорные факты давали все основания и дальше разрабатывать чисто бытовую версию мотива убийства Кирова. Казалось, даже судьба близких родственников Николаева складывалась как по заказу для подтверждения именно такой версии. Его единоутробный брат Петр Алексеевич, командир отделения батальона связи 58-го полка, расквартированного в Ленинграде, дезертировал 14 ноября. Он опасался ответственности за растрату 30 рублей, выданных ему на покупку трансформатора. Брат Милды Драуле, Петр Петрович, счетный работник 8-го отделения милиции Ленинграда, в апреле 1934 г. за растрату был осуждён, уже отбывал срок наказания в исправительно-трудовом лагере города Свободный, Дальневосточный край, на строительстве БАМа.
И всё же Агранов решительно отказался не только от весьма сомнительной по политическим мотивам «иностранной» версии, но и от бытовой, которая могла бы удовлетворить всех.
Вечером 4 декабря, когда Сталин после поездки в Ленинград уже вернулся в Москву, направленность следствия резко изменилась. Оно впервые получило — «агентурным путем» — фамилии людей вне семейного круга Николаева, тех, с кем обвиняемый более десяти лет назад работал в Выборгском райкоме комсомола. Более того, в тот же день и сам Николаев подтвердил «агентурные данные». «Вопрос: какое влияние на ваше решение убить Кирова имели ваши связи с оппозиционерами-троцкистами? Ответ: на мое решение убить Кирова повлияли мои связи с троцкистами Шат-ским, Котолыновым, Бардиным и другими».
Получив такое «признание», Агранов незамедлительно сообщил в Москву Сталину и Ягоде: «Выяснено, что его (Николаева. — Ю.Ж.) лучшими друзьями были троцкист Котолынов Иван Иванович и Шатский Николай Николаевич, от которых многому научился. Николаев говорил, что эти лица враждебно настроены к тов. Сталину. Котолынов известен Наркомвнуделу как бывший троцкист-подпольщик. Он в свое время был исключен из партии, а затем восстановлен. Шатский — бывший анархист, был исключен в 1927 г. из рядов ВКП(б) за контрреволюционную деятельность. В партии не восстановлен. Мною дано распоряжение об аресте Шатского и об установлении местопребывания и аресте Котолынова. В записной книжке Леонида Николаева обнаружен адрес Глебова-Путиловского. Установлено, что Глебов-Путиловский в 1923 г. был связан с контрреволюционной группой «Рабочая правда». Приняты меры к выяснению характера связи между Николаевым и Глебовым-Путиловским. В настоящее время Глебов-Путиловский — директор антирелигиозного музея».[13]
Несмотря на появление у следователей возможности связать убийцу с троцкистской оппозицией, советская пропаганда придерживалась первоначальной оценки трагедии. Той, что появилась в газетах еще 2 декабря и выглядела относительно «нейтральной». Убийство объявлялось делом «врагов рабочего класса, советской власти, белогвардейцев». Даже 6 декабря, выступая на похоронах в Москве, В. М. Молотов заявил: в смерти Кирова повинны некие абстрактные «враг рабочего класса, его белогвардейские подонки, его агенты из-за границы». Такое мнение настойчиво подкреплялось газетными сообщениями о проходивших в те дни в Москве, Ленинграде, Минске «ускоренных» судебных процессах. О судах над «белогвардейской агентурой», обвинявшейся в подготовке «террористических актов».
Тем временем верхушка ГУГБ НКВД СССР, оставшаяся в Ленинграде, — Агранов, начальник ЭКО Л. Г. Миронов, замначальника СПО Г.С. Люшков, помощник начальника ЭКО Дмитриев — стала настойчиво разрабатывать как основную политическую версию. Арестовали, допросили не только Шатского, но и Котолынова — студента Политехнического института, в недалеком прошлом члена ЦК ВЛКСМ и исполкома Коммунистического Интернационала молодежи. Это и позволило практически сразу же выйти на качественно новый уровень подозреваемых. Тех, кто не только давным-давно работал с Николаевым в Выборгском райкоме комсомола, в Лужском укоме, либо сталкивался с ним опять же по работе в Ленинградском горкоме, но и, быстро выдвинувшись в руководство ВЛКСМ, действительно был связан с «зиновьевской» оппозицией, открыто «блокировался с «троцкистами».
В своих откровенных показаниях — ибо и не предполагали, как те будут использованы, к каким последствиям приведут и их самих, и очень многих других — Шатский, Котолынов, В. В. Румянцев, В. И. Звездов, Н. С. Антонов, Г. В. Соколов, И. Г. Юскин, Л. О. Ханник, А. И. Толмазов, А. И. Александров, Н. А. Царьков отнюдь не скрывали общеизвестное. Своих прежних близких знакомств по Ленинградскому губкому и Северо-Западному бюро ЦК ВКП(б). Теми самыми партийными органами, которые долгие годы возглавлял Г. Е. Зиновьев. Среди прочих был назван и A. M. Гертик, в то время проживавший в Москве и работавший помощником управляющего Объединенным научно-техническим издательством. Его арестовали 8 декабря, а два дня спустя во время допроса он назвал среди своих близких товарищей по партии И. П. Бакаева, Т. Е. Евдокимова, И. С. Горшенина. За этим последовала новая волна арестов, допросов. А 14 декабря следователи зафиксировали в протоколах очередных показаний фамилии Зиновьева, Л. Б. Каменева, Г. И. Сафарова. Многих, очень многих иных, арестованных только два-три года спустя.
Своеобразным «подарком» следствию стало, прежде всего, то, что практически у большинства арестованных при обыске нашли оружие. Один, два, а то и три-четыре револьвера, остававшихся у их владельцев вполне законно после Гражданской войны, но теперь становившихся бесспорным «доказательством подготовки терактов». Кроме того, у всех имелась и литература, однозначно оценивавшаяся как «контрреволюционная» — «завещание» Ленина, «платформа» группы Рютина, различные заявления и групповые письма вождей оппозиции в адрес съездов партии, ЦК ВКП(б). Мало того, у арестованного тогда же, в середине декабря, К. Н. Емельянова обнаружили хранимый им архив «ленинградской» оппозиции.