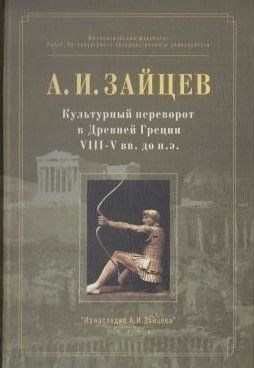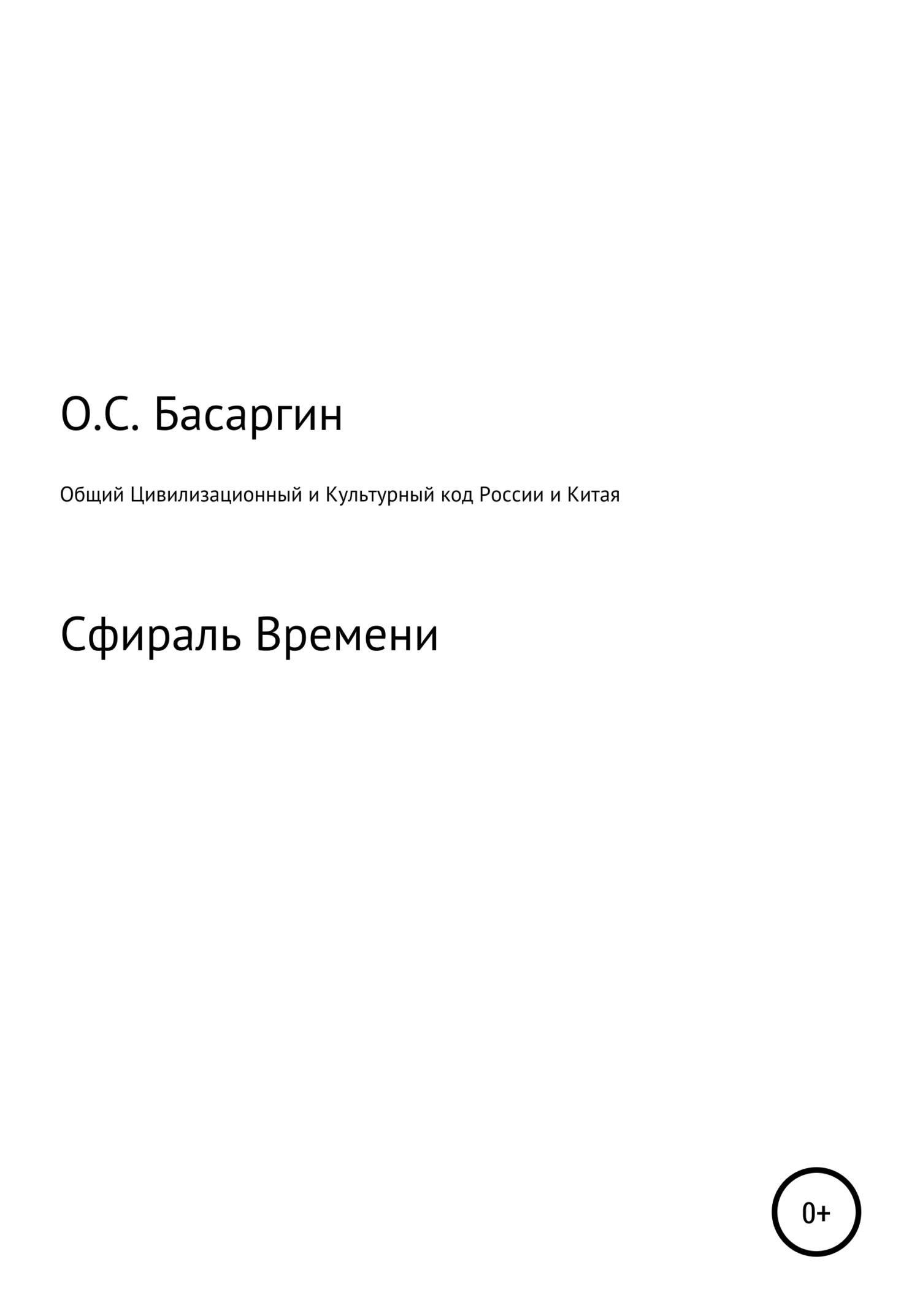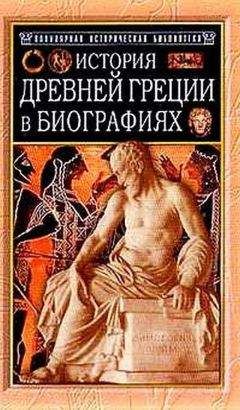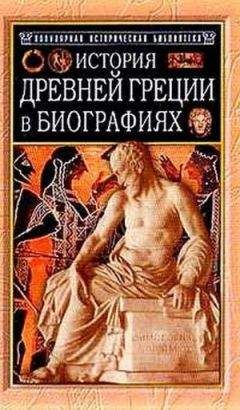классической филологии в ее традиционном понимании, рассматривал «греческое чудо» не столько как уникальное событие, не подходящее ни под какие общие закономерности, сколько как звено в цепи аналогичных культурных и социальных сдвигов. В той школе мысли, в которой он воспитывался (точнее, воспитывал себя), даже самая пламенная любовь к античности не могла отменить старого правила: сходные причины в сходных условиях приводят к сходным следствиям. Сравнительно-историческое изучение древних цивилизаций еще в XIX в. обратило внимание на факт удивительного параллелизма: середина I тыс. до н. э. отмечена появлением новых форм религии (этический монотеизм в Иудее, зороастризм в Персии, буддизм в Индии, даосизм и конфуцианство в Китае), зарождением философии (Греция, Индия, Китай), литературы (Греция, Индия, Китай) и науки (Греция). С всемирно-исторической точки зрения еврейские пророки, Солон и Фалес, Заратустра и Будда, Конфуций и Лао Цзы жили в одну и ту же эпоху, названную Карлом Ясперсом «осевым временем». То, что было создано ими и их современниками, составляет точку отсчета в историческом самосознании большинства существующих ныне культур.
Проблема «греческого чуда» решалась, следовательно, в два этапа. Во-первых, нужно было найти причину, общую для всех цивилизаций, затронутых «осевым временем», ибо отсутствие сколько-нибудь прочных контактов между ними и одновременность происходивших сдвигов практически исключали взаимовлияние, равно как и действие в каждом отдельном случае различных, но однонаправленных факторов. Во-вторых, следовало объяснить, почему в Греции эта причина привела не к религиозно-этическому перевороту, как в остальных цивилизациях «осевого времени», а к зарождению тех социальных и культурных форм, которые в модифицированном виде доминируют и в современном мире, т. е. демократии и науки, а помимо них — к созданию бессмертной философии и литературы, театра, архитектуры и скульптуры, зарождению рациональной медицины, истории, политической теории и много другого.
В качестве общей причины, давшей импульс тектоническому сдвигу «осевого времени», А. И. предлагал рассматривать распространение железа, которое, проникнув к X-VII вв. до н. э. во все рассматриваемые цивилизации, привело к экономическому подъему, повлекшем), в свою очередь, за собой социальную дестабилизацию и разрушение традиционных форм жизни. С этой точки зрения, новые этические религии и философские учения середины I тыс. до н. э. представляют собой в совокупности попытку найти смысл в изменившемся мире и определить место в нем человека.
Чтобы выдвинуть такую гипотезу в конце советской эпохи, нужно было обладать немалым интеллектуальным мужеством. В глазах интеллигенции марксизм уже полностью дискредитировал себя, и все, что хотя бы внешне напоминало экономический детерминизм, базис, надстройку и т. п., наталкивалось на активное неприятие, в котором интеллектуальные мотивы были смешаны с эмоциональными. Идея причинно-следственной связи между таким грубо-материальным продуктом как железо и греческой философией казалась многим едва ли не оскорбительной, в то время как попытки объяснить культуру из нее самой — через карнавал, диалогизм, структуру, категории, архетип, мифологическое мышление — встречали куда более сочувственный прием.
Между тем железо имеет такое же отношение к марксизму, как и традиционное археологическое разделение на каменный, бронзовый и железный век. Речь идет о непосредственном технологическом перевороте, повлекшем за собой далеко идущие социальные и культурные последствия, среди которых, однако, не было того, чего требовала марксистская схема — изменения «способа производства». К подобным технологическим переворотам, всякий раз открывавшим перед человечеством невиданные ранее возможности, относят одомашнивание животных и переход к земледелию в неолите, изобретение бронзы и колеса на Древнем Востоке, огнестрельного оружия в позднем Средневековье, книгопечатания в эпоху Возрождения. Не случайно типология четырех «культурных переворотов», намеченная в статьях и набросках А. И., — «неолитическая революция», зарождение государства и письменности в Шумере и Египте, «греческое чудо» и Возрождение — прямо связана с соответствующими технологическими сдвигами (с. 293). Признание технико-экономической сферы в качестве самостоятельного фактора эволюции человечества нельзя считать экономическим детерминизмом, — последний настаивает на том, что это главная и даже единственная движущая сила.
Ответ, предложенный А. И. на первую часть вопроса, шел вразрез и с уже сложившимся подходом к проблеме «осевого времени» на Западе. Ни работы Альфреда Вебера, ни идеи самого Ясперса, ни организованная журналом «Deadalus» дискуссия по этой проблеме с участием лучших экспертов по соответствующим культурам, не содержат даже намека на воздействие единого технологического фактора. [13] Есть, однако, область, в которой каузальная связь между распространением железных орудий и оружия, ростом производительности труда и повышением роли отдельного крестьянского хозяйства, доступностью тяжелого вооружения даже среднему крестьянину и возникновением на этой основе гоплитской фаланги, с одной стороны, и развитием полисной демократии, с другой, давно уже была ясна специалистам. [14] Но если один из центральных аспектов «греческого чуда» непосредственно связан с железом, нельзя ли связать с ним и другие, в частности, с помощью той же полисной демократии?
Отметим сразу же, что подобное объяснение отнюдь не нового становлением полиса как самоуправляемой гражданской общины и его развитием в сторону демократии связывали зарождение философии и науки, расцвет искусства и литературы. Дав в I главе своей книги краткий, но емкий очерк формирования полиса в условиях «железного века», А. И. недвусмысленно отклонил, как неубедительную, зависимость между институализированным участием граждан в решении государственных дел и мощным всплеском творческой активности в духовной сфере. Сам по себе античный полис не мог ее породить, ибо Рим, бывший типичным полисом, не дал в культуре ничего до тех пор, пока не перенял уже сложившиеся греческие формы. Греческий полис далеко не сразу и не везде стал демократическим: поэзия (VIII—VII вв.), философия и наука (начало VI в.) зародились раньше демократии. Совокупный опыт античности и Нового времени противоречит тезису о специфически позитивном влиянии демократии на расцвет культуры: монархия, аристократия или тирания не помешали проявиться талантам Гомера и Шекспира, Пифагора и Декарта, Архимеда и Ньютона. Отсюда следует, что греческий полис имел отношение к «культурному перевороту» не как форма государственной власти, а как форма социальной организации, которая менее других препятствовала раскрытию творческого потенциала личности.
Здесь мы подходим к центральной проблеме в объяснении механизма «культурного переворота» как такового, а не только его греческого варианта. Что порождает творчество, что поощряет его и что мешает ему? Поскольку эти вопросы выходят за пределы компетенции историко-культурного исследования, предложенное А. И. объяснение опирается на закономерности, изучаемые естественными и социальными науками. Отдельные части этого механизма трактуются им в разных главах книги в виде кратких теоретических тезисов, за которыми следует конкретный материал. Часть важных положений развита в его статьях, докладах и набросках, помещенных в Приложении, среди них и такие, которые не могли быть ясно сформулированы в условиях советского времени. Попытаемся соединить