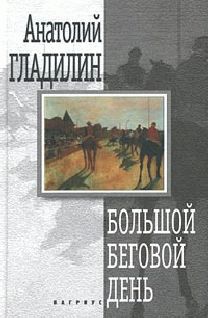Огромная процессия — 193 арестанта в сопровождении вдвое большего количества казаков — двинулась подземными переходами из предварительной тюрьмы в здание окружного суда.
Вооруженная охрана придавала шествию особую внушительность. Казалось, штурмовая колонна ворвалась в зал суда, захватила места амфитеатра, предназначенные для публики, загнала сенаторов за длинный стол, покрытый красным сукном, — и судьи выглядели жалкими и ошеломленными таким напором.
Сенатор Петерс звонил в колокольчик, пытаясь установить тишину, но его срывающийся голос тонул в глухом рокоте зала. Внизу по узкому проходу метались растерянные приставы. Адвокаты и секретари то и дело оглядывались на грозный амфитеатр, где переговаривались, передавали записки, отпускали язвительные замечания по ходу заседания. На вопросы первоприсутствующего подсудимые отвечали неохотно и пренебрежительно.
Первый день суда завершился совсем неожиданно: подсудимых пригласили в столовую и накормили обильным обедом.
Этот день наложил отпечаток на весь процесс: подсудимые чувствовали себя триумфаторами, каждая ироническая реплика в адрес прокурора вызывала одобрение зала — обвиняемые шумно демонстрировали свое явное превосходство над растерявшимися сенаторами. Мышкин видел, что товарищи пребывают в возбужденном, радостном состоянии, да и его самого не покидало ощущение несерьезности всего происходящего. Суд представлялся нелепым фарсом. Опьяненные первыми победами, революционеры как будто забыли, что «праздничные», «торжественные» дни должны смениться долгими годами «одиночек», болезней, смертей…
(И правильно сделали, что забыли: нельзя жить в постоянной тоске и унынии. Пусть в окружении жандармов с шашками наголо, пусть в суде, но все-таки праздник.)
Мышкин особенно усердствовал в обструкции заседаний.
Его ответы первоприсутствующему звучали наиболее дерзко:
— Ваше звание?
— Лишенный всех прав арестант.
— Ваше занятие?
— Занимался печатанием запрещенных правительством книг.
— Где было ваше последнее местожительство?
— Арестован в сибирской тайге.
Ковалик пытался громогласно выразить протест против суда, но первоприсутствующий не дал ему слова. Мышкин и тут нашел возможность высказать неудовольствие по поводу отсутствия публичности и гласности:
— За судейскими креслами есть несколько мест, вероятно для лиц судебного ведомства, и здесь, за двойным рядом жандармов, примостились три-четыре субъекта. Неужели это та самая хваленая публичность, которая дарована новому суду на основании судебных уставов? Называть это публичностью — значит иронизировать, насмехаться над одним из основных принципов нового судопроизводства.
Первоприсутствующий прервал его, но Мышкин сделал вид, будто не услышал:
— Мы глубоко убеждены в справедливости азбучной истины, что света гласности боятся только люди с нечистой совестью, старающиеся прикрыть свои грязные, подлые делишки, совершаемые келейным образом; зная это и искренне веря в чистоту и правоту нашего дела, за которое мы уже немало пострадали и еще долго будем страдать, мы требуем полной публичности и гласности!
Мышкин опустился на свое место под одобрительный гул зала. Фрузе Супинской можно было гордиться своим мужем.
Так состоялось его первое выступление. Мышкин понял, что говорить в суде будет непросто. Надо искать юридически обоснованные, официально разрешенные формы для своего выступления. И вечерами Мышкин опять переписывал речь.
После чтения обвинительного заключения, которое заняло два дня, особое присутствие постановило разделить всех подсудимых на семнадцать групп и каждую группу приглашать на заседание отдельно. Это решение амфитеатр встретил свистом и громкими криками. Только с помощью отряда казаков первоприсутствующему удалось «очистить помещение».
Теперь почти все участники процесса приняли «протестантство». По утрам жандармы буквально силой тащили арестантов в окружную палату. Но, появляясь в зале заседаний, революционеры в оскорбительных для первоприсутствующего выражениях отказывались отвечать на какие-либо вопросы и вообще участвовать в суде. Их поспешно уводили обратно, а предварилка встречала овациями. Из раскрытых окон внутреннего дворика раздавались крики:
— Браво, молодцы!
Мышкин чувствовал своевременность и необходимость своей речи. Ведь получалось, что буря протеста бушевала только в стенах тюрьмы, а в газетах появлялись скупые, цензурованные сообщения. Официальная пресса передергивала факты, называла революционеров мальчишками, недоучками, беспринципными людьми. Нужно было довести до сведения народа программу и задачи революционной партии.
…Теперь, оглядываясь назад и вспоминая прошедшие годы, можно смело утверждать, что эта речь была самым важным этапом в его революционной деятельности. Вопреки усилиям председателя суда, Мышкин сумел сказать все, что надо было сказать. И товарищи это поняли. Вечером того же дня он повторил свою речь через выбитое окно камеры перед всеми заключенными петербургской предварилки. Тюрьма ответила ему бурными аплодисментами. Товарищи единодушно избрали его своим «президентом». Ему передавали десятки записок с благодарностями и поздравлениями. Несколько дней пролетело как в тумане. Мышкин чувствовал себя счастливым, как человек, успешно исполнивший свое дело.
Впрочем, другие «восторженные слушатели» из корпуса жандармов поспешили перевести его в Трубецкой бастион. «Аплодисменты» со стороны особого присутствия последовали еще позднее: через два месяца в камеру неожиданно ворвались солдаты и смотритель, Мышкина раздели донага, обыскали, а потом принесли арестантскую одежду: онучи, перевязанные веревками, халат с бубновым тузом — каторжное обмундирование. Потом ему прочли «Приговор по делу о революционной пропаганде в Империи». Мышкину определили лишение всех прав состояния и ссылку «в каторжные работы в крепости на десять лет».
Кончилась «эпоха послаблений».
Сырой, мрачный каземат нижнего этажа. Маленькое окно упиралось в крепостную стену. Ни книг, ни личных вещей, ни чаю, сахару, табаку, мыла — все запрещено.
Каторга.
Перед отправкой в новобелгородскую тюрьму его заковали в кандалы и обрили полголовы.
Это, барин, дом казенный, Александровский централ,
За какое преступленье бог на каторгу послал?
Когда и где услышал он эту старую «кандальную» песню? Заунывный мотив. Бесхитростные слова. За какое преступленье бог на каторгу послал? Вопрос по существу. Убил кого или ограбил?
Это, барин, дом казенный…
Когда удаленные из зала суда ожидали приговора в Трубецком бастионе, все они включились в дискуссию о будущем России. Перестук был почти легальным, а во время прогулок умудрялись передавать записки, прикрепляя их хлебным мякишем к водосточной трубе. Характерно, что в те дни заключенных меньше всего волновала собственная судьба. Войнаральский, Ковалик, Рогачев, Муравский, Рабинович отчаянно спорили о той форме правления, которую должен избрать народ после победы революции (в том, что революция произойдет скоро, что она неизбежна, Мышкин не сомневался), — спорили с таким ожесточением, как будто сидели не в казематах, а за столиком женевского кафе…
Воспоминания о Трубецком бастионе оживили здесь, в Шлиссельбурге, давно замолкнувшие споры, и он чувствовал, что опять втянут в полемику, хочется говорить, доказывать, опровергать… Но кому нужны слова, которые замерли в стенах Петропавловки? Кому нужен оратор, витийствующий в одиночной камере Шлиссельбурга? Эти мысли должны вырваться на волю. Тысячи молодых революционеров найдут в них опору для себя. И в этом твоя реальная помощь движению… Должны прорваться! Когда, каким образом? Замурован. На годы. На долгие годы. Шестнадцать лет тебе сидеть, Ипполит Никитич. Так говори же, сотрясай попусту воздух — все лучше, чем биться головой об стену…
— Вследствие царствующей у нас неразберихи народники глупо и бестолково тратят силы и энергию, ибо их поступками движет лишь неосмысленная любовь к народу. Несколько лет в России уже ведется пропаганда каких-то идей, а сами пропагандисты не только не знают ближайшей практической своей цели, но даже с теорией не совсем совладали.
— Революционеры обязаны теперь же выработать форму правления! Я не верю, чтобы весь народ, как единый человек, был проникнут одним, ясно осознанным идеалом. Я не верю, чтобы масса русского народа в настоящую минуту обладала несравненно большим политическим чутьем и умением противостоять влиянию мнимых друзей, чем французы 1789, 1830, 1848 и 1871 годов. Я знаю, что из среды одного и того же народа могут выходить и вандейцы, и жирондисты, и поклонники Марата, и национальная гвардия Коммуны, и версальские войска. Предположим, что совершается революция. Польша отделяется и организует республику. Финляндия провозглашает свою независимость. Остзейские бароны умоляют Бисмарка принять их под свое покровительство (я специально сгущаю краски, но надо предвидеть худшие варианты). В Петербурге либералы созывают Земский собор и толкуют, кому вручить конституционную корону. Жандармы и попы и словом и оружием пропагандируют безусловную покорность «предержащим властям». Ну, а мы что будем делать?