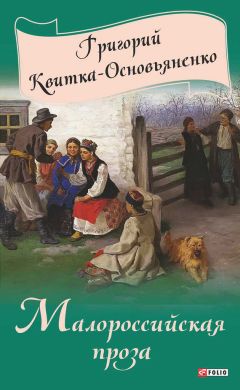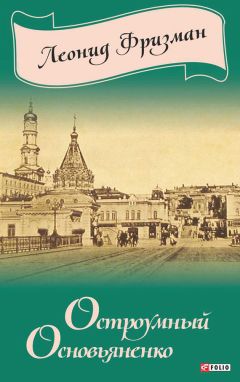Народ и нужды нет. Полагая, что они приготовляют там что ни на есть «комедное», оставляли их в покое, дабы не мешать и скорее насладиться зрелищным удовольствием. В городе Глухове все умирало, то есть так только говорится, а надобно разуметь — мучились от нетерпения увидеть скорее представительную потеху.
Как вот и настал игрательный день. На сарай взлез человек с необыкновенным горлом и прокричал во всеуслышание, что в тот день будет знатная комедия: просил приходить к вечеру и деньги за вход приносить, кажется, по пятаку… По тогдашнему времени это была сумма порядочная. В городе закипела новость, а к вечеру у комедного дома подвинуться не можно было: такое множество собралось народу. Большая часть, или, почитай, и все, не видели вовсе комедий и, как их пускают, понятия не имели; так и простительно было их любопытство.
Батенька — они в те поры находились в Глухове — не были охотники вечером сидеть, а рано ложились опочивать; но тут любопытства ради, поохотились пойти; пошли и насилу влезли, за теснотою, в дверь; заплатили своего пятака и уселись на скамейке.
Перед сидящими развешено было большое полотнище, из чистых простынь сшитое (так рассказывали батенька), и впереди того горело свечей с десяток. В вырытой нарочно перед полотнищем яме сидели музыканты: кто на скрипке, кто на басу, кто на цымбалах и кто с бубном. Когда собралось много, музыка грянула марш на взятие Дербента, тогда еще довольно свежий. Потом играли казачка, свадебные песни, а более строились. Собравшиеся, наслушавшись музыки, желали скорее потешиться комедным зрелищем.
Как вот полотнище — да прехитро! — так рассказывали батенька — не упало, не спустилось, а поднялось кверху, а как и отчего, — никто не мог догадаться… Но хорошо: поднялось себе.
Взору представились деревья с листьями, воткнутые в землю, по обеим сторонам, а посредине чисто, гладко и ничего нет. Вот все и смотрят себе.
Как вот и вышел человек, совсем не по-комедному одетый, а так, просто, якобы казак. Не поклонясь никому, начал во все стороны рассматривать, присматриваться, глаза щурит, рукою от света закрывается и все разглядывает…
— Чего ты так смотришь? — спросил один из кучи сидящих.
— Смотрю, все ли собрались? — отвечал этот. — Пусть будет, — сказал, почмыхивая.
— Да все, все, давно все собрались. Пускай свой комедии! — закричало несколько голосов: — ноги помлели от сиденья.
— А пан Азенко тут? — спросил казак, все приглядываясь.
— Да тут, тут, давно тут! — кричали голоса.
— А где же вы, ваша ясновельможность? Я что-то вас не рассмотрю, говорил казак, заслоня свет рукою.
— Да вот я! вот! — изволили отозваться сами пан полковник, указывая на себя пальцем.
— Так и есть. Это вы, пан полковник! — сказал казак и, подняв руку, сказал прегромко: — нате же вам, пане Азенко, дулю! — и с этим словом протянул к нему руку с сложенным шишом… Переднее полотнище, как некоею нечистою силою, рассказывали батенька, опустилось и скрыло казака с шишом и все прочее зрелище.
Трудно и описать, что в сей момент произошло в комедном доме. Это был неслыханный пассаж! Смех, хохот, крики заглушали гневные слова пана Азенка! Все бывшие тут (как их в Петербурге называют, зрители) встали с своих мест и с шумом толпились у выхода. Его ясновельможность пан Азенко чуть не лопнет от гнева и, в бешенстве, приказывает своим «сердюкам», заведенным и у него, на подобие как и у найяснейшего пана гетмана, схватить, поймать полковникохульца, дерзнувшего, при всякой старшине и поеполитстве, тыкнуть, почитай к самому его ясновельможности носу преогромнейшую дулю. Сердюки бросились, но ни того казака и ни одного комедчика даже следа никакого не осталось. Искали, искали, весь город обыскали, всю ярмарку перешарили, нет как нет, и по сей день нет! Как в воду все кануло…
Батенька-покойник, рассказывая, бывало, валяются от смеху, что пан Азенко привсенародно скушал такую большую дулю, а пан Букенко, все это придумавший и распорядивший, потешался крепко своим методом к отмщению за помешательство в выборе его в Глуховские полковники.
Поверьте, что все это была истинная правда.
Пожалуйте, к чему же это я начал рассказывать?
Да! Это по случаю заключенной мною приязни с неизвестным мне человеком, предлагавшим мне сходить в театры.
"Хорошо, — подумал я, — увижу, что здесь в комедном действии делается. Пойду". И пошел прямо, по расспросу, к театру; а комедного дома, сколько ни спрашивал, никто не указал; здесь так не называется. Это' я и в записной книжке отметил у себя.
Хорошо! Вот я и пришел к театру, чтобы узнать, будут ли в тот день пускать комедию? Я думал, что и здесь крикун влезет на крышу да и станет кричать. Куда! Петербург город хитрый! Рассчитали, где взять такого горлана, который бы кричал на весь Петербург, который, должно знать, несравненно пространнее Глухова. Вот и умудрились: напечатают листочков, что будет, дескать, комедия, и рассылают по городу. Вот народ и знает, и валит на комедию. Таким побытом пришел и я. Вижу, люди покупают билетики… Я в расспрос. Изволите (видеть: в театре есть ложи, кресла, места за креслами и еще кое-что.
Вот, будь я бестия, если лгу! Я подумал: ложа? это ложе; как мне, приезжему, никому неизвестному, притти в театр с тем, чтобы лежать на ложе? Не хочу. Я знаю политику. Кресла? я и не помню, сидел ли я в жизни на кресле? И как мне сидеть в кресле, когда люди важнее меня берут билетики за креслами. Я и заключил, что это мне приличнее. Была не была, — взял билетик и заплатил полтора рубля. Справился с другими покупателями, — точно: не обманули в цене, взяли и с других, и сдачу верно дали. Любопытствующих около меня пропасть! Все рассматривают, расспрашивают. Любопытный народ! Я тут же свел много знакомств с неизвестными мне людьми, и был ими очень ласкаем. Рассказы мои их много веселили, и приятели мои не отпускали меня от себя.
Сяк-так, только я и в театре. Тьфу ты, пропасть, вежливость какая! Лакей встречает, провожает, место указывает; надобно же вам знать, что я не один гость там был. Слуга всем успевал услужить. Уселся я. Тьфу ты, пропасть! Знати, знати! И все общество было отличное! Уж насмотрелся. А тут музыка дерет, да какая? И флейты, и скрипки! Да так жарят, что с соседом и не думай говорить! Услаждение чувств, да и полно. Зрение пресыщается: одно то, что светло-пресветло; всех в лицо ясно видишь; а другое — сколько тут особ! О людях и говорить нечего, я их пропускал и не обращал внимания, но все смотрел на почтенных особ. Столько вдруг не увидишь их в нашем Хороле. И то правда, город городу рознь: Хорол и Петербург. Более же всего меня прельщал и пленял прекрасный пол, которого тут были кучи, как стадо какое. И все прекрасны, без исключения, и все прелесть до того, что меня, при взгляде на них, мороз подирал по коже. Конечно, были на разные вкусы, смотря по комплекциям любующихся ими. "Были корпорации дебелой, были и утонченной", как выражался некогда домине Галушкинский; следственно, для всех было приятно любоваться ими. Уж так, что насладился! Не жаль мне было уже и полутора рублей. Да чего? Скажи он мне про этакое наслаждение и запроси два рубли? Дал бы; каналья, если бы не дал!
Наслушавшись к тому еще и музыки, когда — скажу словами батеньки-покойника — как некоею нечистою силою поднялась кверху бывшая перед нами отличная картина, и взору нашему представилась отдельная комната; когда степенные люди, в ней бывшие, начали между собой разговаривать: я, одно то, что ноги отсидел, а другое, хотел пользоваться благоприятным случаем осмотреть и тех, кто сзади меня, и полюбоваться задним женским полом; я встал и начал любопытно все рассматривать.
Вдруг от задних и боковых моих соседей услышал вежливые приглашения: "Не угодно ли вам сесть?.. Садитесь, пожалуйста!" Я, им откланиваясь, все говорю: "Покорнейше благодарю! Я и здесь насиделся, и сюда не пешком пришел… Покорно благодарю: устал сидя, разломило всего". — Куда? Они не отстают; все упрашивают садиться, а я, знай, откланиваюсь и благодарю за честь, а чтоб они яснее слышали о моей учтивости, я во весь голос отказываюсь. Все бывшие тут обратили внимание на мою вежливость. Как вот пробирается чиновник, подумал я, важный, в мундире, и прямо ко мне; и он с предложением, чтобы я садился.
"Что за вежливый город! — подумал я, — как ласкают заезжего! Все принимают участие. Но не на таковского напали! Я им покажу, что и в Хороле политика известна не меньше Петербурга!" И по такому побыту еще больше начал благодарить и сказал наотрез: "Ей-богу, не сяду, а еще больше — при вас…"
— Так садись же! Или я тебя вон выведу! — почти закричал вежливый чиновник и с этим словом почти бросил меня на стул. — Когда пришел сюда, должен, как зритель, наблюдать порядок и делать все то, что и прочие «зрители» делают. — И тут же ушел от меня.
"Ага! так это я теперь зритель? — подумал я, — понимаю теперь. Я должен «зреть» на них и за ними все делать. Хорошо же, это немудрено". И уселся себе преспокойно. Гляжу на всех, что они делают? Ан они «зрят» на особо разговаривающих. Давай и я «зреть»: ведь я зритель.