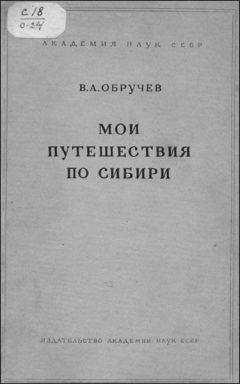Так нас все время окружали книги Гиргаса, но сам он, хотя с его смерти прошло тогда едва 15 лет, представлялся нам какой-то мифической фигурой, которую начинали обволакивать легенды, вроде фантазии о его восточном (на самом деле белорусско-литовском) происхождении. В те годы я не подозревал, что и здесь рукописи откроют мне впоследствии многие стороны, если не его личности, то трудовой жизни, которые мало кому были известны; я не думал, что некоторые его работы окажутся моими спутниками до конца моих дней.
На исходе 1907 года, когда зашла речь о моей поездке в Сирию, Розен передал мне однажды небольшую обыкновенную тетрадку. Записанная аккуратным почерком Гиргаса, она содержала около 500 народных пословиц, собранных им, очевидно, во время пребывания в Сирии и Египте в начале 60-х годов. Интерес их заключался главным образом в том, что они отражали не литературный язык, а живой разговорный диалект, об изучении которого систематически европейская наука того времени еще не думала. Тетрадка приоткрыла мне занятия Гиргаса той областью, к которой он впоследствии не возвращался; я почувствовал в нем предшественника по интересу к разговорному языку и тогда же понял, насколько важно было бы опубликовать сборник даже и теперь. Его следовало бы проверить на месте, но я не рискнул взять тетрадку в свою первую поездку на Восток, когда побывал в Сирии и на Ливане, часто в тех же местах, что и Гиргас. Это оказалось роковым: к арабам на их родину я больше не попал, проверить записи из живых уст полностью не удалось, и сборничек остается неизданным, хотя параллелей к нему накопилось у меня немало. Только незначительная часть его увидела свет в хрестоматии одного моего ученика.
Часто я вспоминал Гиргаса на Востоке за другой работой, которой там одно время занялся. Еще в студенческую пору, на лекциях у профессора Н.А. Медникова, разбирая историю Абу Ханифы ад-Динавери, я всегда, как на загадку, смотрел на французскую фразу обложки арабского текста „La preface et les index paraitront plus tard“ – предисловие и указатели выйдут позже. Ход жизни и науки казался мне по молодости гораздо проще, чем бывало на самом деле, и я недоумевал, почему это „plus tard“ тянется с 1888 года, когда вышло издание, до XX века. Со временем я узнал всю историю издания, очень поучительную для характеристики отношений Гиргаса и Розена.
Рукопись, считавшаяся тогда уником, являлась одним из перлов собрания Учебного отделения Министерства иностранных дел, перешедшего после революции в Институт востоковедения: она поступила туда с коллекцией нашего посланника в Стамбуле и Риме Италийского, вовсе не князя, как можно было бы думать по фамилии, а питомца Киевской духовной академии и доктора медицины Лондонского университета. Уже в возрасте 60 лет, в Турции, он изучил арабский язык и стал завзятым коллекционером рукописей, перебивая их иногда у знаменитого австрийца Хаммера. По-настоящему историю ад-Динавери открыл барон Розен, составляя свой каталог: он впервые оценил выдающееся значение памятника и списал его целиком, собираясь издать. Отвлеченный другими работами, он отказался в 80-х годах от этой мысли и передал копию Гиргасу. Тот и подготовил издание с привлечением второй, поступившей тем временем в Лейденскую библиотеку, рукописи – автографа знаменитого историка, каллиграфа и дипломата эпохи монгольского нашествия, алеппинца Ибн аль-Адима. Увидеть издание законченным Гиргасу не было суждено, – его допечатал Розен, и тогда-то появилась на обложке фраза о предисловии и указателях. Может быть, на это он намекал в своем ответе на мой вопрос о Гиргасе, но спросить его прямо, я как-то не решился. Отправляясь на Восток уже после его смерти, я захватил с собой без особых мыслей экземпляр издания Гиргаса.
В моих скитаниях за два года нередко наступали такие периоды тяжелого настроения, когда я почти не мог видеть людей и находил себе спасение и утешение только в какой-нибудь работе над рукописями и книгами. Так случилось летом 1909 года, и, вспомнив про неоконченную работу Гиргаса, я взялся 15 июня за составление указателей к истории ад-Динавери. Было это в приморском предместье Триполи, тихом городке аль-Мина, где я жил в комнатке второго этажа небольшого дома с окном в чистенький, выложенный каменными плитами дворик с крохотным цветником. Громадный олеандр, росший во дворе, протягивал цветущие ветви прямо в окно моей комнаты; хозяева говорили, что запах его прогоняет комаров. Природа, однако, мало меня успокаивала, и только в работе над указателями я находил забвение. Кончил я их через два месяца 22 августа, уже в местечке Амиюн на Ливане, к юго-востоку от Триполи.
И там у меня была комната во втором этаже с широким видом на виноградники по склонам Ливана. Природа здесь была величественна и прекрасна, но в нее часто врывались неожиданные диссонансы. Раз, – возвратись вечером, я едва успел разглядеть на своей постели свернувшуюся змею; другой раз я оказался невольным свидетелем чисто арабской мести над школьным учителем, которого изрезали ножами, подкараулив в темноте. Он с трудом дополз до моей двери и долгие недели отлеживался у меня в комнате. Указатель, между тем, двигался исправно и занял больше двух тысяч карточек. Старательно я перевязал их, а летом следующего года привез с собой в Россию.
Мне очень хотелось как-нибудь отметить приближавшееся 25-летие со дня смерти Гиргаса, и в начале 1911 года я написал в Лейден известному среди арабистов всего мира издательству Брилля, которое в свое время напечатало арабский текст, не пожелает ли оно выполнить обещание, данное на обложке, и опубликовать подготовленные мной указатели. Велико было мое изумление, когда быстрее чем через две недели я получил в ответ не только письмо, но отпечатанные листы указателя с просьбой просмотреть их. Из письма издателя выяснилось, что они были составлены учениками Розена еще в 90-х годах, проредактированы им самим и отпечатаны в 1904 году. Остановка была за Preface – предисловием, которое к Бриллю так и не поступило от Розена, несмотря на напоминания.
Под первом впечатлением мне стало жутко, что я проделал бесполезную работу. Однако две тысячи карточек не пропали даром. Просмотр показал, что указатели Розена были составлены несколько по иной системе, чем у меня, и давали возможность перекрестной проверки и уточнения; кроме того, в них отсутствовали некоторые из подготовленных мною отделов; их легко было теперь допечатать. Я предложил Бриллю составить и недостающее предисловие с анализом рукописей, послуживших основой издания Гиргаса, с характеристикой накопившихся с той поры материалов, сводкой биографических данных об авторе и обзором его произведений, в особенности же истории, представлявшей одну из ранних в арабской письменности попыток прагматического изложения. Каких-нибудь набросков на эти темы в бумагах Розена, хранившихся тогда у его старшего ученика, ираниста В.А. Жуковского, не нашлось, но у меня за последние годы накопилось уже немало нужных заметок, а лейденские рукописи оказалось не трудно выписать в Петербург, в то же Учебное отделение Министерства иностранных дел на Большой Морской, где хранился наш бывший уникум.
К осени 1911 года моя работа была закончена. Печатание в Лейдене шло быстро, корректуры заняли три первых месяца 1912 года, и долгожданные Preface et index появились как раз к 25-летию со дня смерти издателя. Работу я посвятил памяти тех трех ученых, которым особенно обязано открытие и издание текста этой истории: русским – Гиргасу и Розену, голландцу – де Гуе. Ее сочувственно встретили западные и арабские ученые; имя „тихого“ Гиргаса еще раз с благодарностью помянула наука.
Я сознавал все же, что наш долг перед его памятью далеко не погашен. Про него напоминали мне самые разнообразные обстоятельства. В Университетской библиотеке попадались тома „Книги песен“ – бесценной антологии X века, по которым он готовил указатели, участвуя в большом международном предприятии; фундаментальный том индексов появился в печати только к 1900 году и до сих пор остается одним из прекрасных „инструментов“ нашей работы. По экземпляру библиотеки я опять мог видеть, как тщательно вел подготовку Гиргас, исписывая бисерным арабским почерком поля булакского издания. У одного букиниста случайно, с некоторыми его книгами попалась мне черновая, но, по обыкновению, очень аккуратная и четкая большая тетрадь с выписками для очерка истории арабской литературы. И здесь меньше половины вошло в литографию, обнаруживая, насколько строго он относился к предварительной стадии, умея черновой материал подчинять требованиям общего построения. Пересмотрел я за эти годы и те немногие арабские рукописи, которые перешли от него в Университетскую библиотеку. И они приоткрывали передо мною различные стороны его интересов и работ.
С 1917 года еще ближе я подошел к Гиргасу. Секретарство на факультете, подготовка неосуществившейся тогда истории кафедры и необходимость часто обращаться к архиву постоянно наталкивали на него. Его отчет о трехлетнем пребывании на Востоке, сохранившийся в делах факультета, точно предварял мои собственные впечатления через 50 лет; я как-то почувствовал в авторе своего последнего предшественника из Петербургского университета, – предшественника по интересу к живому арабскому Востоку с его диалектами, с его только зарождавшейся тогда новой литературой, которую я застал уже на большом подъеме. Все меня влекло к Гиргасу, и к 40-летию его смерти мне опять захотелось помянуть его „не злым тихим словом“ в отдельном очерке, как немного позже я сделал в особой книжке относительно одного из его предшественников, египетского шейха Тантави.